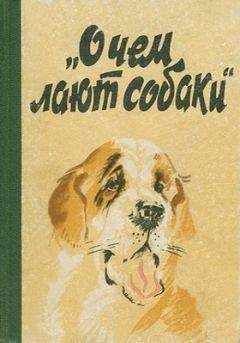Яцек Денель - Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя
Какое-то время занимался литографией, вырезал по памяти быков… Бругада помогал – ставил камень на мольберт, закреплял его, а уже потом я его разрисовывал, скреб бритвой, держа в другой руке большую лупу, без нее я почти ничего не вижу, – но два раза камень сорвался, один раз чуть ногу мне не размозжил, даже нос ботинка зарисовал, а второй раз грохнулся об пол, когда малышка Росарио стояла в трех шагах от него.
Понятно, вся работа насмарку. А в тот второй раз у меня была отличная сценка, почти законченная. Но я это дело забросил. На большие полотна у меня тем более сил нету, зато моя Букашечка уже подросла для рисования, думаю послать ее учиться в Париж, даже пару писем послал, глядишь, Феррэ устроит ее у Мартинеса, он, говорят, неплох. Денег на обучение не жалко.
Да, учить есть кого, не то что мой тюфяк Хавьер, у него ни к чему жилки нет, только знай себе лежит, как кусок жирного мяса на противне, в застывшем соку, приехать ему ко мне, видите ли, не хочется, перенести свою откормленную задницу через Пиренеи трудно, а я, старик, как молодой щегол, должен скакать туда-сюда, иначе не увижу своего ангелочка Марианито. Будто не могут на время оставить свои дела (да какие у них там дела!) и приехать к отцу, одной ногой ведь в могиле стою. Но есть Букашечка, и на Букашечку времени не жаль, я даже показывал ее рисунки в Мадриде, так профессора Академии пришли в восторг: это ж юный Рафаэль в юбке, говорят, молодой Менгс[11] в шелках. А Менгс рядом с ней – сопляк. Такого таланта мир еще не видал. Вот и садимся мы вместе с ней, я ей что-то там рисую на клочке бумаги, а она усердно копирует, и сколько ж в том трудолюбия, сколько знания дела, какая линия замечательная!
Правда, неопытная еще, но гений чувствуется. Гойя чует гений. Она себе рисует, а Леокадия по хозяйству хлопочет или выходит в город, ведь должна же женщина что-то от жизни иметь, мы же во Франции, не в Испании, не буду же я держать ее под замком. Она себе рисует, а я вынимаю из ящика пластины слоновой кости, краски, тоненькие кисточки и, глядя через увеличительное стекло, сначала грунтую их копотью с лампы, а потом капаю пару капель воды. И какие же там миры открываются, сколько же там фигур, духов, сколько страстей – калеки, узники, пузатые карлики, старые ведьмы; смотрю я сквозь лупу, налюбоваться не могу, сколько же всего может происходить на такой малюсенькой пластине, разведи сажу в воде. А потом, раз-два и берусь писать. Если не выходит, а все чаще стало не выходить, соскребываю без сожаления, потому как знаю, копоть разбредается в воде в полном согласии с моими помыслами и даже преподнесет кое-что получше. Куда ужаснее.
С Хавьером я тоже сидел, как с Букашечкой, – думал, коль скоро мой папаня, обыкновенный позолотчик, породил такого живописца, как я, то каких же высот может достичь мой сын! Так думал я обо всех о них по очереди: об Антонио, Эусебио, Винсенте и Франсиско, а они все взяли да поумирали, мало кто дожил до таких лет, чтоб карандаш в руке держать, не то чтоб удивить мир своим талантом; даже с Хавьером сколько раз случалось, что был он на волосок от смерти, как тогда, когда оспой заболел, а я всю ночь носил его на руках, вместо того чтоб писать или шкворить какую-нибудь деваху, а он, в жару, умаявшись от плача, засыпал на минуту и тут же просыпался; когда я рассказал об этом королю, тот был так растроган, что схватил меня за руку и долго-долго ее сотрясал, а потом заиграл на скрипочке, что, поди, у старпера означало сочувствие. А поскольку за драпировкой не было другого скрипача для трудных пассажей (как оно случалось, когда он выступал перед двором), а я по тем временам еще слышал нормально, то хоть святых выноси…
Что ж, каждый выражает сочувствие тем видом искусства, какой ему ближе всего, – я сострадал истекающей кровью Испании своими шедеврами, он сострадал больному ребенку и его отцу, пиликая на скрипочке. И на том спасибо. А ведь не только тогда, с самого рождения Хавьера я старался не привыкать к нему, боялся, что уйдет от нас, как и предыдущие или как те, которых позже Пепа выкидывала: кровавые ошметки, грязь на простынях, ужасы, какие хотелось бы позабыть, чтоб не маячили перед глазами, да и не только эти, но я вижу их, не переставая, стоит глаза закрыть, во сне ли или наяву, когда смотрю, как на пластине слоновой кости чернота разбредается в капле воды и можно разглядеть не только трупы расстрелянных у стены, не только монашек, насилуемых французской солдатней, но и все те гнусности, что вылезали из нее: карлики, гомункулы, что поместились бы на ладони, один с чудовищной головой, другой вообще без ног, паскудство, фу, паскудство.
Но один таки уцелел, и ни с кем-нибудь, а с ним вдвоем сидели мы, как теперь сидим с Росарио, – что за восхитительные минуты, когда я видел, как он становился точной копией своего отца, его, то бишь моим, шедевром; как вынимал из ящика кисти, мастихины, всякие там иглы и скребки, как присматривался к пигментам и спрашивал, из чего их делают… а все же не чувствовалось в нем гения; я это разгадал почти в самом начале, но обманывал себя, убеждал, мол, что-нибудь путное из него еще выйдет, да где там. Молоть языком, распространяться о пигментах и красках был мастак – но когда надо подойти к полотну, к листу бумаги, становился капризным, трусливым, то он стесняется, то не умеет, то одно, то другое; порой казалось, что делает мне назло, специально; пробрал я его пару раз, гаркнул на него как следует, не девка ведь, но потом стало только хуже. Не хотел больше со мной рисовать, не хотел приходить в мастерскую, становился ленивым, неразговорчивым. И откуда у него такое? Уж точно не от меня. Выходит, от матери. А она действительно, молчаливая, хоть и работящая. Мало что в жизни знала, а потому помалкивала, так оно и лучше. Только наряжаться любила. Да разве не все они это любят?
Говорит ХавьерНе то чтобы мне не разрешал садиться возле себя. Разрешал. Если, конечно, был в Мадриде, если пребывал в хорошем настроении и мог уделить мне ну хотя бы минутку, а то ведь иногда писал по целым дням, как бешеный, без остановки, чертыхаясь себе под нос, а потом еще и целыми ночами, в цилиндре, прикрепив к нему несколько свечей, всегда самого лучшего качества, дающих самый сильный, самый белый свет; а если таковых под рукой не оказывалось, закатывал скандалы, будил мать, прислугу и посылал кого-нибудь в лавку, чтоб тот дубасил в дверь до тех пор, пока владелец не встанет, не откроет и не продаст свечи самого лучшего качества сеньору де Гойе, психу небезызвестному. Ну и уезжал – получал заказ то в одном месте, то в другом, писал министра в его имении, или герцогиню во дворце, или же большое полотно для какой-нибудь церкви, какую, разумеется, он должен был осмотреть собственными глазами, чтоб понять, с какой стороны падает свет, каким оттенком на солнце отливает камень, из которого сложены стены, с какого расстояния и под каким углом будут смотреть на его картину, то есть какой воспользоваться перспективой.
Исчезал на целые недели, на работу ли или на охоту с Сапатером – приятелем со школьной скамьи… Мать только ставил в известность; впрочем, знай она, что он порой рассказывал о себе и об Альбе[12], даже скажи ей, что, мол, еду к герцогине и намереваюсь недурно провести времечко, она бы лишь опустила глаза – только это и умела. Ну и лечь под него, когда пришло время забеременеть и выкинуть.
Но когда мне было девять лет, он уехал надолго – и не то чтобы так не случалось раньше, случалось, но на сей раз не возвращался дольше, чем обещал; из Кадиса[13] приходили написанные чужой рукой письма – я уже тогда узнавал его наклонный, чуточку корявый почерк с длинными усами у «s» и «y»; мать с утра до ночи сидела в своей комнате или во внезапном приступе отчаяния прилетала ко мне и начинала тискать меня и целовать, порывисто, сверх всякой меры, так что хотелось как можно быстрее выскользнуть из этих накрахмаленных манжет и тугих кружев; и если в такой возне мне случалось взглянуть на нее, я видел опухшие от плача глаза с алым ободком век, белки с сеточкой красных сосудов, а оттого казавшихся розовыми; от уныния черты ее лица погрубели, как порой случалось и во время беременности; выглядела она жалко, поэтому, если я бросал на нее взгляд, у меня уже не хватало духу, чтобы высвободиться из ее объятий, я застывал, словно пойманный в силки воробей, когда берешь его в руку, и ждал, пока она не ублажит свою потребность в назойливых ласках. Однако чаще всего мне удавалось увернуться и не видеть ее лица, я вертелся из стороны в сторону, как ненормальный, чтоб только не взглянуть на нее – тогда я мог вырваться и убегал на кухню или на патио.
Вернулся он страшно изнеможденным, его фактически внесли в дом, он повис на плечах извозчика и слуги, выглядел посиневшим, позеленевшим, будто вылепленным из грязного воска, чудовищно исхудавшим, с обвязанной белой косынкой головой; но самым странным было почти гробовое молчание, сопровождавшее его возвращение. Никаких радостных возгласов, никаких приветствий, никаких поручений; и если матери надо было что-то сказать, говорила она шепотом, словно боясь взорвать возвышенную тишину. Каждый шелест платья, каждый стук каблука казался не в меру громким.