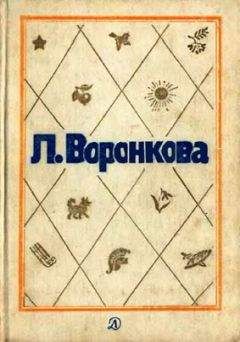Анна Караваева - Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице
— Просил тебя?.. Молил?.. Где ты?.. Нету-у!.. Могу я эку меру вынести, могу-у?.. Будь ты проклят… проклят… проклят… и все твое! — в исступленье кричал старик.
Он мочил голову, унимая кровь, а сам с дикой радостью изрыгал хулу на бога, на беспощадную к нему жизнь и на это голубое небо.
Марей поднялся на берег, оглядел знакомый луг. Стреноженные паслись два коня. Рослые, сытые, блесткие, с крутыми боками. Марей узнал коней, захохотал гулко, во всю ширь груди:
— Лисягинские коньки! Хо-хо-о!
Острым своим ножом, которым недавно стриг Сергуньку, разрезал Марей путы на ногах коней. Вскочил на одного, а другого за веревку потащил за собой.
Сел Марей на чужого коня и понесся вместе с ветром. Уже две жизни прожил он, и на вихревом скаку коня начал жить внове, в третий раз.
Хорошо бежали кони. Несся Марей, не отдыхая.
Пробрался по речушкам мелким к зеленым волнам прохладной Катуни, где ждут его товарищи, други, последняя прилепа Мареевой жизни. Марей ехал сторожко, выспрашивал, нет ли близко где форпостов, откуда на все дороги смотрят черные дула пушек. Мало ли в горах Алтайских поотрезано земли, отгорожено валами, тыном, стенами, понасажено за стены казаков и солдат со штыками на ружьях. Роют, ковыряют, рвут острым клювом разбойничьей птицы травяные лесистые склоны Алтая. Вольная жизнь на земле — единственное спасенье от этих людей и их страшных порядков. Так думал Марей.
Остальные беглецы уже вторые сутки жили в деревушке, дожидаясь Марея. Работа, как и везде, нашлась. Но пришлось натерпеться страху. Только ночью улеглись на сеновале, вытянув зудящие, усталые ноги, как вдруг оглушило всех стуком в ворота. Стучались солдаты из форпоста, что ехали мимо, и требовали пустить их на ночлег.
Все отговаривалась старуха-хозяйка, что положить-де негде, что сеновал-де провалился, клялась и хаяла свою избу, как только могла. Солдаты попались не очень злые и разместились где-то в другой избе.
Утром на заре облегченно крестилась старуха, глядя в ворота.
— Утекли! Господи-владыко!.. до чего служилых народ боится. Вот боится! Ведь из хрестьянских же сынов, а вот, поди, надел одежу солдатскую, саблю нацепил, песни орет, ружьем артикулы начнет ладить — ну, скажи, чужой, чужой, страшно!.. И чо с ими там и сделают: ведь словно дикой человек станет… Как солдата, али — ишо тошней — казака увидишь, будто и душа вон… Ну, скажи, ужели на век вечный по-волчьи людям жить?
К вечеру прискакал Марей.
Сурово, не прерывая, беглецы выслушали страшную повесть Марея, ничему не удивились: мир, который они оставили, готовил им только зло, которое часто горше смерти.
На одну лошадь посадили Анку, которая ехала не слезая, а на другую лошадь садились по очереди, чтобы отдыхать.
Сеньча вдруг беспокойно потянул чутким своим носом и сказал:
— Слышно, робя, паленым наносит. Где-то горит…
Еще немного прошли — шибануло сразу горьким дымом, взвило пыль выше по дороге. Ветер усиливался.
Когда дорога пошла в гору, затрепал ветер соломенно-золотые Аткины косы, вздул на мужиках изветшалые рубахи, а запах гари стал еще крепче.
Вдруг вскрикнул, испуганно побледнев, Аким Серяков:
— Пожар, братцы!.. О-ой!..
Все глянули вправо — и замерли на месте.
Внизу, среди зелено-пестрой вешней степи, вздувалось, ширилось зарево, косматая огневая лапища все выше рвалась к небу. Временами ветер, налетая сразу, пригибал зарево к земле и бешено раскидывал среди черного клубистого дыма ослепительные разлеты длинных юрких языков пламени, словно глумливая рука неведомого чудовища играла огненными лентами.
Не успели еще растерянные, бледные беглецы с горы спуститься, как из-за косогора вдруг вынеслась пара вспененных коней. За ними прыгала крытая кибитка. За первой кибиткой вторая, третья, и целый табун дико ржущих лошадей со спутанными гривами, с перекошенными глазами. Навострив дрожащие уши, стали кони, словно окаменев, и заржали тоскливо. Из кибиток же ответил им надрывный бабий визг, плач ребят. Смешались в кучу кибитки, возы, коровы, привязанные веревками к кибиткам.
Среди жалобного ребячьего воя и бабьих причитаний гортанными голосами перекликались узкоглазые скуластые мужчины в пестрых грязных халатах и вывороченных меховых малахаях.
— Калмычье, робя, бежат куда-то, ей-бо-о!.. — сказал беспокойно Василий Шубников.
Степан Шурьгин почуял, как сдавило сердце в комок от острой жалости к этой пестрой, разноголосой, воющей толпе, к ребячьим этим головенкам. Побежал к ним навстречу, большой, светловолосый, с золотым загаром сильного тела сквозь продранную рубаху, и крикнул, протянув руки:
— Куда идете?
Навстречу выбежал плотный калмык, затряс щекастым темно-желтым лицом с пучками седой бороды. Подбирая с земли длинные полы беличьего малахая, он заговорил быстро-быстро, порывисто кланяясь с каждым словом своей сбивчивой нерусской речи.
— Ой-ой… хорош урус, хорош?.. Нету, пожар, нету, а?.. Нету… бить… шибко бить, нету, а? Боюсь… у-у, боюсь урус… палка… огонь… Не будешь там… пожар? Нет? Нет?
Он махал рукой назад на зарево, крутил головой, топтался на месте, ширил глаза, изображая ужас, и взметывался грузным телом во все стороны, показывая, что он бежит и боится. А сам глядел на большого светловолосого человека с непередаваемым выражением страха, беспомощности и надежды.
Степану стал он вдруг так же близок, как и рваная, пыльная кучка усталых людей за его спиной. Он протянул руку калмыку, помотал с улыбкой головой:
— Не понимаю, мил человек. Откудова бежите-то? С пожару, да?.. Бить не буду, что ты! Мы сами беглые.
Спустились остальные. Сеньча, хмуро глядя на пожарище внизу и на сбившуюся толпу лошадей, людей и возов, сказал, не скрывая нетерпеливой досады:
— Ну, чо ишо? Прет куды-то калмычье, ну и пусть… Чо с ними прохлаждаться?.. Выспросить надо, какая деревня аль аул горит… Айда дале…
Алтаец же все кланялся, показывал куда-то смуглой рукой и вдруг заплакал тяжко, вздрагивая всем телом.
Сеньча сказал с усталым равнодушием:
— Вона, заревел опять! Ну что с им баять долго!.. Надо шибче идти, охота на становье скореича, о хлебушке надо озаботиться…
— Чай, надо жалость к людям поиметь, — укорил его Степан.
Сеньча выкрикнул со злым задором:
— А нам самих себя жалеть не надобно, а? Бродим ведь, как зверье, — на себя бы жалости хватило…
И вдруг все вздрогнули: из-за косогора показались четверо. Черные, в саже… Зубы их цокали, челюсти сводило, как у зверей, волосы полуобгорели на голове.
— Батюшки-и! — взвизгнула Анка.
Полуголые, истерзанные люди, пахнущие дымом, будто не видя никого, упали с размаху на колени и закрестились истовым двуперстием — трое парней, одна девушка. Алтаец радостно вдруг закивал головой, показывая на всех четверых:
— Ой… наш, наш… урус, хорош, хорош… Говорить будет, вот говорить будет…
Сеньча грозно крикнул четверым:
— Чо горит-то, сказывай! Ну!
Девушка простонала:
— Поздеевка-а!
— Позде-ев-ка-а?!
Беглецы повторили со стоном. Обступили возбужденно четверых.
— Да что подеялось-то? Пошто горит? Господи-и!..
Рассказ был короток. В Поздеевке жили по старой вере. Мужики были исправные, трезвые, жили сыто. Но не давали покоя попы. Накатят в Поздеевку, со старцами-начетчиками ссорятся, опостылели попы хуже волков. Приехали недавно двое, горластые, загребущие… Поздеевцы сунули им кое-что, даже медовухой угостили — только бы уехали. Но попы зашарили спьяна по Поздеевке, привязались к начетчику, давай его корить и грозить ему. Старик не хотел говорить с ними, попы избили его. Тогда кинулись на них поздеевские мужики и намяли поповские бока.
Один поп умер, а другой ночью отлежался и убежал к своим в крепость. А с дороги послал парнишку чьего-то, чтобы обещание его передал мальчонка поздеевскому люду: пошлет-де он, поп православный, солдат на «непокорное, безбожное кержачье за убийство и бунт», а солдаты следа не оставят от Поздеевки.
— Вот и бает батюшко наш, старец преподобный: айда, робятки, умрем смертию мученской, примем венец… Не дадим солдатью измываться над нами, а через геенну души очистим и к Исусу в обитель прямехонько… Так и порешили… Глядим, с горы, вона оттеда, солдаты с ружьями. А у нас округ села солома уж сготовлена, рубахи смертны тоже излажены… Батюшко-старец приказал нам: поди, ребятки, подпаливай. Они псалмы поют, а мы округ селышка родного обежали да и подпалили… И-их!.. И жисти вдруг дотоль жалко стало!.. Пробились мы сквозь огонь… А они все сгорели-и!.. О-ох!..
Сеньча спросил сипло:
— Товарища нашего Пыркина Евграфа семейство как?
— И-и… сгорели, дру-уг! Дуняха ревмя ревела, неохота было сжигаться, а отец с матерью ее силком в избу с собой увели, в смертну рубаху одели…