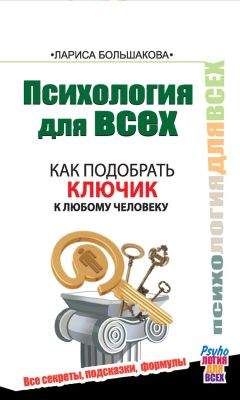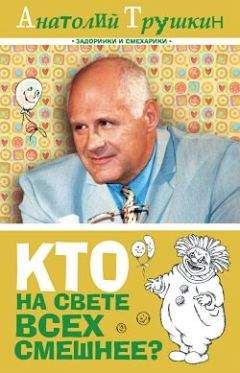Дмитрий Вересов - Генерал
Как-то на февральском закате, когда небо вдалеке над горизонтом уже отсвечивает нежным зеленоватым светом, предвещающим весну, к нему подсел высокий человек явно нелагерного вида, в добротном пальто и с дореволюционными усиками. Гость закурил, и какое-то время оба сидели молча, пытаясь разглядеть друг друга не внешним, а неким внутренним зрением. От незнакомца веяло чем-то забытым и в то же время явно нерусским, и у Трухина нехотя появилась мысль о провокации. «Впрочем, странно, что этого не было до сих пор, – улыбнулся он сам себе. – Немцы на это великие мастера, хотя до большевиков им, конечно, далековато». И незнакомец действительно решительным жестом потушил окурок и повернулся.
– Не будем тянуть кота за хвост. Помните Ахтырки?
Ход был забавный: в Ахтырках, судиславском имении, принадлежавшем когда-то Николаю Трубецкому, отцу известных философов[95], ровно шестьдесят лет назад венчались Иван и Надежда Трухины.
– Помнить, разумеется, не могу, но знать – знаю.
– Ах, да, простите Бога ради, вы же паникарповские. А почему Надежда Сергеевна венчалась там, вам ведомо, надеюсь?
– Думаю, дом был более подходящ для свадебных торжеств, чем наша скромная деревяшечка.
– Ну отчасти и так. Но главное – Тихомиров, этот кровопийца и откупщик, скупивший половину имений по судиславщине, имел крупный долг морального, скорее, свойства перед моим отцом, и последний любезно предоставил кузине возможность празднеств в столь роскошном месте.
– И чем вы это докажете? – рассмеялся Трухин.
– И доказывать не стану. Я Юрий Трегубов[96], член национально-трудового союза нового поколения. Вустрау – наш.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКАОпись имеющихся в Паникарпове строений на 1849 год
1. Старый дом ветхий и при нем домовая церковь.
2. Фруктовый сад с разными деревьями, в нем две оранжереи с деревьями сливовыми, персиковыми и прочими.
3. Флигель людской с перегородками о пяти окошках, с печкою, сенями и тремя чуланами.
4. Флигель ткацкий о пяти окошках, в нем 5 станов ткут полотно разных сортов.
5. Шатровая мельница.
6. Кладовая каменная с двумя окошками и железными затворам, в которой хранится лён.
7. Кирпичный завод с обжигательными печами.
20 марта 1942 года
Весна даже на севере Германии оказалась совсем не похожа на бледную, слабую, но все же преисполненную неизъяснимой чахоточной прелести петербургскую пародию на это время года. Когда в Ленинграде еще только робко начинал стаивать снег, здесь зелень садов уже вовсю заливал яблоневый и грушевый цвет. И это торжество роскоши как-то ущемляло Стази, будто еще раз напоминало ей о том, что она здесь чужая, бледное, немощное дитя невских берегов. Хотя зеркало говорило ей совсем об обратном: на нее смотрела властная, знающая себе цену женщина, ни во что не верящая, вполне сытая, вполне за собой следящая, насколько позволяют подобное плен и война. И только в горьком изломе бровей да во вздрагивающей порой верхней губе внимательный человек сумел бы прочесть растерянность и тоску.
Постоянное общение – пусть формальное и малоприятное – с молодыми мужчинами, многие из которых, изголодавшиеся по женщинам за месяцы войны и плена, смотрели на нее с откровенной жадностью… Сначала Стази это коробило, потом забавляло, а потом появилось еще более худшее чувство – жалость к самой себе. Ведь теперь можно было честно признаться, что ей уже никогда не испытать той большой, той сумасшедшей любви, о которой мечтают все, будь ты хоть дворянка, хоть последняя работница на каком-нибудь «Красном треугольнике». Душа ее выжжена, как выжжена будет она у любого человека, прошедшего эту войну. Удивляло только то, что в переживаниях своих она давно перестала думать о неизбежном падении Союза, а в своих рассуждениях исходила из того, что война все-таки закончится отнюдь не поражением Германии. Откуда и когда появилось это ощущение, Стази не могла бы сказать, как не могла она и понять, радуется она этому или нет, боится или ждет. Иногда, лежа, опустошенная после визита Рудольфа и слушая, как нежно перешептывается старинный сад за открытым окном, она думала о том, что примет любую судьбу, лишь бы остался целым и невредимым ее город. Стыдясь себя, она мало вспоминала мать, еще меньше брата; подруги и вся прошлая жизнь вообще существовали как дурное, неумело сделанное кино, но город, непостижимым образом соединивший в себе все лучше, что было для Стази в ней самой и в истории ее родины, владел ею безраздельно. Она знала, что десять раз готова погибнуть ради того, чтобы город остался жив, – о, если б так же думали миллионы ее соотечественников! Стази с отвращением вспоминала толпы рабочих у пивных, дикие физкультурные празднества в ЦПКиО, раззявленные рты и смешочки в музеях Царского и Павловска. Нет, эти люди, конечно, не могут так любить ее город, как любит его она, связанная с ним культурой, духом, кровью поколений. Они будут защищать свою красную Москву, но что им гордый, тонкий, далеко не каждому дающийся в ощущениях дух ее столицы? Порой Стази даже казалось, что она живет только до тех пор, пока держится Ленинград, – и наоборот. И это давало силы держаться день, неделю, еще неделю… Конечно, наутро, при дневном свете это казалось глупостью, болезненным бредом, но апрельскими ночами, в старинном замке вечных врагов своего города Стази верила в эту связь, и ей было легче.
А еще она как никогда много думала об отце. Слова Благовещенского стояли у нее в ушах действительно благостной вестью, словно этот худой, потрепанный жизнью старик воистину был златокудрым ангелом, спустившимся с небес. Стази не могла объяснить себе, почему слова русского генерала, относившиеся к далекому времени минувшей войны, пробудили в ней ощущение того, что отец жив. А испытание жизнью всегда мучительней испытаний смертью, и, промучившись некоторое время, Стази все же рискнула обратиться за помощью к Рудольфу. Разумеется, она не сказала ни слова о русском пленном, но призналась, что ее замучили странные сны про отца, и что, может быть, Рудольфу будет нетрудно навести какие-то справки о нем. Ну хотя бы в НТСНПе или даже в РОВСе[97]… Рудольф честно дал кому-то поручение, но человека с фамилией Новинский нигде не обнаружилось.
– Думаю, что в таких случаях фамилию меняют, – заметил Рудольф за вечерним чаем. – Это классика.
– Но на что же ваша хваленая разведка? Разве ей неизвестны все фамилии человека, будь их хоть десяток?
– Мы не разведка, Стази. И интереса для нас ваш отец не представляет. Зато для вас у меня есть довольно интересное предложение.
– Поездка в Париж? – усмехнулась Стази.
– Женский лагерь для коллаборантов.
Стази брезгливо сморщилась. Скопление женщин вызывало у нее еще большее отвращение, чем мужские лагеря. В женщинах было больше злобы, больше грязи и больше истеричности, которая всегда так остро ощущается в массах подневольных людей.
– О, не для работы, нет! Я просматривал списки по делам службы и случайно обнаружил нескольких женщин из пригорода Ленинграда. Да-да, из Детского Села. Это ведь Царское Село? – проявил неожиданную осведомленность Герсдорф, никогда не бывавший на Ленинградском фронте.
– Да, это Пушкин.
– Я подумал, что вам было бы интересно с ними встретиться, разве нет?
«Интересно. Хорошее слово для такой ситуации, – вздохнула про себя Стази. – Снова проверка, ловушка?» Впрочем, она с самого начала поставила себя так, что ей абсолютно нечего скрывать, и потому она может абсолютно честно отвечать на любые вопросы. Это очень облегчало Стази жизнь и в школе, и на службе у Герсдорфа. Лгать и скрывать нужно было там, в Советской России, здесь же, у немцев, у врагов, оказалось, что можно говорить правду, и только правду.
– Конечно! Спасибо вам, Рудольф.
– Тогда я отвезу вас завтра с утра. Это неподалеку, под Науеном.
Лагерь оказался каким-то старым санаторием для бедных, однако с претензией на былое изящество. Точеные балясинки на балконах главного здания, какая-то резьба на крошечных домиках, сделанных будто из картона. Идиллическую картинку портили лишь дамочки в форме, словно сделанные по одному шаблону: белокурые, с невыразительными глазами, в ладно пригнанной форме. Перед Герсдорфом они тянулись в искреннем рвении.
– Наберут же идиоток, – раздраженно буркнул он, помогая Стази вылезти из «хорьха». – Никаких разговоров с ними.
Они прошли в небольшую комнату, вероятно прежнюю приемную больных, и Рудольф положил перед Стази тоненькую стопочку листков, усеянных многочисленными лиловыми печатями.
– Решайте сами, у вас есть около часа. Фройляйн Гройц к вашим услугам.
«Надо же, как даже занятие русскими делами меняет человека, – улыбнулась Стази, почти любя в эту секунду своего начальника. – Немец никогда не сказал бы „около“».