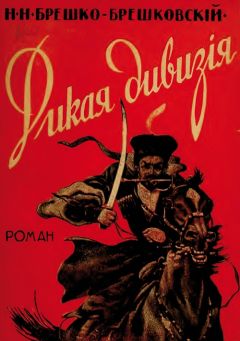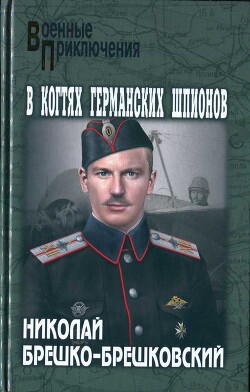Шпионы и солдаты - Брешко-Брешковский Николай Николаевич
— А может быть, тогда я и был не настоящий? — не сдавал своих позиций Юрочка. — Мой дед, генерал Федосеев, — один из героев кавказских войн.
— А, вы хотите сказать, что в вас проснулся атавизм?
— А почему бы и нет? Право, обидно…
— Ну, ну, не обижайтесь, Юрочка! Нет, не шутя, я верю вам, да, да! В этой красивой форме, с бритой головой, вооруженный до зубов, вы и есть настоящий Юрочка Федосеев.
Разговор происходил в Петербурге, у Ларисы Павловны Алаевой. В свете сокращенно звали ее Ларой. Это шло ее нерусскому типу, типу высокой, гибкой брюнетки со своенравным, но притягивающим лицом — чуть-чуть косая линия губ, чуть выдающиеся скулы, две продолговатые миндалины темно-кофейных глаз. Алаева — это по мужу, ныне покойному. Девичья же ее фамилия была Фручера. В итальянскую кровь давно обрусевших триентинцев Фручера из поколения в поколение вливалась еще и греческая, и армянская, и русская, и еще какая-то восточная. И путем такого подбора создалась экзотически-азиатская Лара, затмевавшая писаных классических красавиц. Ей очень к лицу было бы множество браслетов с цепочками и разными висюльками. Она знала это, но не носила, считая бьющим на дешевый эффект мовэ жанром. В обществе у Лары была репутация легкомысленной женщины, грешившей и при муже, и после мужа, но настолько искусно и с таким чувством меры, чтобы оставаться в этом обществе, быть всюду принятой и принимать у себя.
Она курила, забрасывала ногу на ногу и, не злоупотребляя, баловалась кокаином. Но все это было в ее стиле — и папиросы, и нога на ногу, и кокаин. Куренье не лишало ее женственности, ножки у нее были прелестные, а кокаин с "военной" распущенностью и поисками сильных ощущений приобретал все больше и больше права гражданства в петербургских салонах, в тылу и на фронте.
Лара не узнала Юрочку. Два года назад Юрочка не подавал никаких надежд. Вернее, подавал надежды кончить дни свои бесцветным и тусклым чиновником, нажившим вместе с геморроем еще и чин тайного советника.
И, дымя папироской, наблюдая, как Юрочка откидывает широкие, длинные рукава черкески, отчетливый в движениях и с обветренным лицом — оно темнее светловолосой бритой головы, — Лара спросила:
— Но как же, Юрочка? Вас не позвали? Вы сами? Добровольцем?
— Добровольцем, — согласился Юрочка.
— Отчего это? Повоевать захотелось?
— Да, повоевать. И еще… — он как-то замялся, — еще любовь к родине.
— Любовь к родине? — сощурила восточные миндалины свои Лара. — Нас этому в институте не учили…
— И это очень плохо! — подхватил Юрочка. — И нас в лицее тоже не учили. Над патриотизмом смеялись не только левые, но и правые. И вот понадобилась война, и какая война, чтобы всколыхнуть это чувство! У одних спавшее, а у других… — и, не кончив, махнул рукой: вместе с широким книзу рукавом она походила на крыло птицы.
Лару нельзя было назвать недалекой женщиной, но она не жаловала отвлеченных бесед.
— Какой на вас чин, Юрочка?
— Я, я, видите ли, прапорщик, — сконфузился он за свою одинокую звездочку на погонах, — но через два-три месяца, если, конечно, ничего особенного не случится, я буду произведен в корнеты.
— Корнет звучит гордо, — улыбнулась Лара. — Но, кстати, в какой части вы служите? Что-то вроде казаков?
— Лариса Павловна, да вы откуда? С луны? — всплеснул руками негодующий Юрочка. — Неужели вы не слышали про славную туземную кавказскую конную дивизию?
— Ах это! — спохватилась Лара. — Так бы и сказали! Конечно, слышала: Дикая дивизия? Там у вас Напо Мюрат?
— И Мюрат… И вообще, ничего подобного вы не найдете во всей армии. У нас и рыцари долга и чести, и кондотьеры, и авантюристы, и все те, кого, как хищников, привлекает запах крови. А наши всадники? Эти горцы, идущие на войну, как на пир, на праздник! А наша молодежь с девичьими талиями и с громадными, влажными черными глазами газелей? А сухие старики, увешанные Георгиями еще за Турецкую войну и служившие в конвое императора Александра II? Им уже за семьдесят, но какие бойцы, как рубят, какие наездники! У нас есть один пожилой всадник. Он командовал чуть ли не всей персидской армией. Ингуш Бек-Боров. Он красит бороду в огненный цвет…
— Как это интересно! Что-то нероновское. А ногти красит?
— Ногти? — опешил Юрочка. — Этого я не заметил… Но не разболтался ли я? Вам не скучно?
— Нисколько! Все это так ново! И нравы, должно быть, тоже особенные?
— О, еще бы! Совсем другой мир! В каждом полку свой мулла. Священник, — пояснил Юрочка. — Мулла весь в черном, а его папаха обернута зеленым. Цвет знамени пророка. Вот в черкесском полку мулла ученый, побывавший в Мекке. Его папаха обернута белым. Каждый мулла на позициях со своим полком, и, как у всех, у него винтовка, кинжал и шашка. Хоронят убитых они, не обмывая, как у нас, христиан, а как застала его смерть, со следами крови, в полном вооружении и в боевой черкеске, чтобы на том свете видели все, какой это был доблестный джигит и какой славной смертью он погиб. У наших мусульман считается великим бесчестьем покинуть павшего товарища на поле сражения. Он должен быть похоронен своими же и по своему обряду. Бывали случаи, горцы под адским огнем, теряя людей, вытаскивали и уносили труп всадника своей сотни…
— О, да это совсем романтично! — вырвалось у Лары.
— Еще бы! Это сплошная романтика! Это нельзя рассказать, это надо видеть! Знаете что, Лариса Павловна, приезжайте к нам погостить. Только скорее, пока у нас затишье и нет боев. Я послезавтра возвращаюсь в полк. Хотите, вместе поедем? Здесь, в Петербурге, вы все живете сплетнями, скучаете, томитесь, а там — настоящая жизнь. И как будут вам рады! Какие перспективы интересного флирта! Мы по месяцам не видим интересных женщин…
— Юрочка, еду! Вы меня зажгли!.. Но только в качестве кого же? Ехать так просто — неудобно.
Неудобно, хотя у меня, кроме вас и Напо Мюрата, найдется очень много знакомых. Выдумайте что-нибудь!
— Есть! Выдумал! Привезите подарки нашим всадникам. Их никто не балует. Они за малейшее внимание будут так признательны! Кликните клич между своими благотворительницами. Среди этих дам есть жены генералов и офицеров Дикой дивизии. Накупите несколько тысяч папирос, два-три ящика шоколаду, бисквитов, мыло, иголки, нитки. Вот вам и подарки!
— Идея, Юрочка, идея! Сейчас же открываю огонь по всей телефонной линии!
Карикозов вышел вместе с дивизией с Кавказа. Там, когда он просился в дивизию, он клялся, что он такой фельдшер, каких немного во всей русской армии. На самом деле все его медицинские познания сводились к умению кое-как делать перевязки, да еще кое-как примитивно лечить одну весьма распространенную солдатскую болезнь.
Карикозов прибыл на фронт с громадным кинжалом. Его спрашивали:
— Ты же фельдшер, зачем тебе такой большущий кинжал?
— Ваше сиятельство, — Карикозов величал всех офицеров "вашим сиятельством", знал, что в дивизии много князей и графов, — ваше сиятельство, фельдшер не фельдшер, а немцев этим кинжалом буду резать! — И при этом он корчил зверскую гримасу, скалил зубы, а его хриплый голос переходил в низкое рычание.
Но Карикозов, столь храбрый на словах, оказался отчаянным трусом. Как сотенный фельдшер, верхом на коне, должен был он следовать за своей сотней до передовых позиций включительно. Но при пулеметном и ружейном огне, даже отдаленном, у фельдшера отнимался язык и его насквозь прошибало холодным потом, обалделый, беспомощный, с трясущимися руками, трясущийся весь, мог ли он исполнять свои обязанности? Ингуши — он попал в Ингушский полк — презирали его, как только может презирать кавказский горец отчаянного безнадежного труса. В глазах горца даже средняя доблесть не имеет особенной цены, именно потому, что она — "средняя".
Эти же самые ингуши, да и не только ингуши, а и чеченцы, кабардинцы, когда их сажали в окопы, свое окопное сидение считали великим бесчестьем: