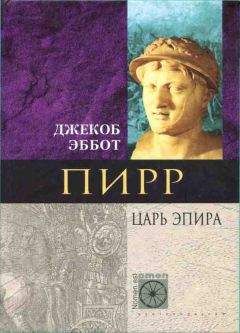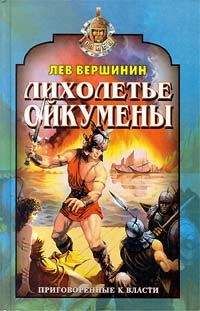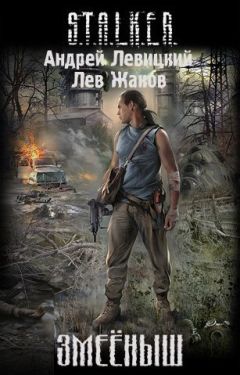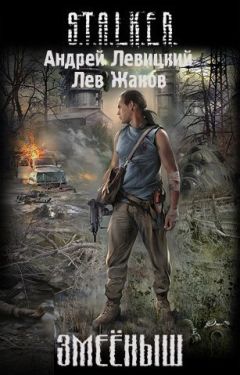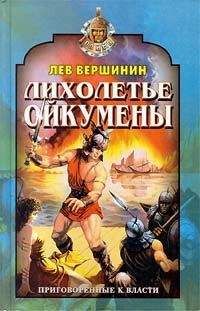Геннадий Прашкевич - Тайна подземного зверя
Спрятала ясак, олешка убила.
Пока теплый был, собрала кровь из сердца.
Ягель сырой достала из желудка, заморозила кровь в запас.
Этим жили.
Тонбэя шоромох в жару, белый гной сочился.
«Это болезнь, – шептал. – Это русская оспа, – горел весь. – Не оставляй меня. Спрячь ясак».
Так все умерли, а тонбэя шоромох жил.
Уже давно все умерли, а тонбэя шоромох поднялся.
Шептала, лежа на тонбуре:
«Тоже поднимусь. В деревянной урасе жить будем. В деревянной урасе, в ней посередине прозрачное».
Тонбэя шоромох смеялся:
«Дух русской оспы, – смеялся, – он страшный. Дух русской оспы, он сильный. Дух русской оспы, он самый сильный из всех духов мира. Кого закогтит, того не отпустит. Только меня отпустил, я – тонбэя шоромох. А тебя, Чудэ, не отпустит».
Жар был. Гной сочился.
«Вот поднимусь. Вместе уйдем. В деревянной урасе жить будем».
Тонбэя шоромох кивал:
«Где ясак?»
Баба Чудэ кивала:
«Встану, вместе уйдем».
Жар сильный. Тонбэя шоромох не давал воды. Устанет, отдохнет, снова не даст воды.
Спрашивал:
«Где ясак?»
Шептала:
«Поднимусь, вместе уйдем».
– Нэнут лупхайм. Прося, не добился.
Снова и снова Свешников проваливался в беспамятство.
Очнувшись, видел: страшная баба Чудэ бьется на полу, как рыба на льду. Видно, вздрогнула. Корчами спину выгибает дугой, руки обожжены углями из очага. На белых губах пена. Сдерживая стон, собрав небольшие силы, падал с понбура, полз к очагу, спасал бабу.
Вор Сенька Песок!
Скрипел зубами, отгонял боль.
Лгал помяс. Лгал, что ушли писаные в откочевку.
Писаные не в откочевку ушли, они совсем ушли. Убоясь оспы, убежали глубоко в сендуху. Сами того не зная, разнесли оспу по дальним стойбищам, засорили сендуху трупами. Большая поруха вышла державе.
Вор Лисай!
Не было кровавых драк, не было резни. Если зарезали кого, то совсем немногих. Не стреляли из пищали, не пускали костяных стрел. Не рожи писаные, а заразная болезнь убивала. А помяс, испугавшись, бросил больных людишек, не обкуривал, как полагается, избу дымом, не сжигал непреклонно одежды умерших. Даже не поил водой, пытаясь спасти больных. Себя самого спасая, бежал на уединенную речку.
Негромко спрашивал:
– Куда Фимка делся?
– Тонбэя шоромох ушел. В русскую сторону ушел. Железный нож-батас брал. Бил меня по лицу. Так думаю, решил, что умерла. Но ушел, я поднялась. В тихое озерцо взглянула, испугалась. Бык оленный меня увидел, испугался. Долго приручала быка к себе. Потом хаха появился.
– Лисай?
– Он.
Получалось, англу в избе умирали один за другим, а Лисай в халарче отсиживался. Все писаные умирали, все русские умерли, а он отсиживался в сендухе. И вернулся в зимовье только много времени спустя.
Спросил:
«Где англу?»
Чудэ ответила:
«Умерли».
«Все умерли?»
Сказала:
«Все».
Спросил, удивясь:
«Зачем лицом такая страшная?»
Ответила:
«Во мне болезнь была».
«Какая такая болезнь?» – как бы не понял помяс.
«Русская болезнь оспа. А еще Фимка батасом по лицу бил».
Хаха смеялся:
«Где ясак?»
Сказала:
«Не помню».
Хаха молодых олешков колол, тальниковых зайцев ловил.
«Где ясак!»
«Хэ, не помню».
Хаха говорил:
«Отдай ясак, эмэй».
Огонь разведет, жидкую болтушку сварит, подаст:
«Хэ, теперь бить больше тебя не буду. Теперь только хорошо кормить тебя буду. Вот ясак найдем, с собой заберу. В деревянной урасе жить будем».
Так говорил. Потом бил.
Чудэа переводила дыхание. Подкармливала огонь кусочками жира, прятала под ладонью страшное лицо.
– Теперь ты пришел… Андыль… На других не похож… Стало англу в халарче, как лиственниц… Ты высокий, головой до верхушки дерева… Холгута ищешь, не спрашиваешь, где ясак…
Прятала страшное лицо в ладонях, раскачивалась в такт с собственной тенью:
– Однако, не найдешь холгута.
– Зачем так думаешь?
– Дух оспы – не наш дух. Дух оспы – сильный дух. Наш шаман умер, борясь с духом русской оспы. А дух холгута – не русский. Он сильней русских. Умрешь, борясь с духом холгута.
Бросала крошки в огонь:
– А может, не умрешь. Андыль. Молодой, полный сил. Когда первый шаман умирал, так сказал: пусть все убегут в сендуху. Сказал: надолго теперь все убегите и много лет не возвращайтесь сюда, к реке. Брат Тэгыр уходя, сказал: «Чудэшанубэ, к нам долго не приходи. Нельзя приходить, в тебе дух русской болезни». Осталась одна. А теперь ты пришел. Андыль. Головой до верхушки дерева. А второй шаман умирал, правду сказал, что скоро русских в халарче будет как лиственниц. Умирая, просил: много придет англу, против них ничего острого не направляйте. Вот сижу одна. Смотрю в огонь, думаю: откуда идут?
Неслышно шептала:
– Лэмэнгол? Зачем?
Впадал в забытье.
Очнувшись, скрипел зубами.
«В урасе деревянной жить будем».
Вор Фимка, вор! А мечтал, наверное, иметь чебак крытый верверетом, пушен лисьими лобками – красиво пройдешь, все бабы смотрят! Когда пить не мог, Фимку баба Чудэ изо рта поила. У него страшная сыпь, у него жар, лихорадка. Он умирал, дух смерти плясал на нем, а баба Чудэ поила Фимку из губ. Спасала тонбэя шоромоха. А он и в бреду обманывал:
«Поднимусь, вместе уйдем. В урасе деревянной жить будем».
Баба Чудэ била ножом олешка, собирала теплую кровь, раскапывала мышиные норы – все несла Фимке. А он – вор!
И лукавый помяс – вор.
Вот лгал: один томился в сендухе. Всех будто вырезали писаные. У Сеньки Песка две стрелы, дескать, торчали из самой груди, а Пашку Лоскута ножами зарезали. Знал правду, и страшно было ему, а не уходил с означенных мест. Может, это ему, шишу аптекарского приказа, было назначено назвать нехорошее литовское имя, напомнить пришедшему про бернакельского гуся?
А он не сумел. Он, забыв службу, хищником кружил вокруг вздрогнувшей бабы. Клялся, как раньше Фимка: «В урасе деревянной жить будем». А позже предательски кричал Свешникову, падая на колени: отпусти казаков! Совсем отпусти, тогда к бабе память вернется!
Но и тут победила жадность.
Не дождавшись ответа, предательски сверг в реку.
Набираясь сил, Свешников садился на понбуре, смотрел в огонь. Вот страшная баба Чудэ дикует совсем одна. Могла уйти к своим, но пожалела – болезнь в ней. Кочевала на быке оленном, наткнулась на след русских. Долго шла по следу, дав свободу верховому быку, потом разглядела: это правда, англу идут. Как говорил шаман: снова идут. Значит, решила, тонбэя шоромох с ними. Обронила стрелу томар. Знак подавала Фимке. Радовалась: Фимка за ней идет. «В урасе деревянной жить будем». Прицепила к ондуше чертежик на бересте. Этим тоже подавала знак.
Не найдя ответа, вздрогнула.
Ночью, тише, чем лиса, тише, чем первый снег, вползла в урасу, ткнула Фимку железной палемкой.
«В урасе деревянной жить будем».
Наконец, начал вставать.
Получалось, что осень рядом.
Вспоминал, томясь сердцем: «Степан, отпусти казаков».
Получалось, что никого и не надо было отпускать, наверное, сами давно ушли. Раз не нашли его, значит, нет никого. Решили, наверное: пропал передовщик, попал в лапы чюлэниполуту. Или водой унесло. Или трясущийся Лисай убедил уйти. Встретили на реке кормщика Герасима Цандина, а он остался.
Теперь слушал страшную бабу с голосом серебряным.
Вот ртом поила горящего в болезни вора Фимку, от смерти выхаживала. Вот, родимцев спасая, не бежала с ними в сендуху. Вот Свешникова вынесла на берег, поставила на ноги. Андыль! Оживешь.
Это все Христофор пугал: писаные – людишек ядят.
«В урасе деревянной жить будем».
Царь Тишайший, государь Алексей Михайлович прост.
Он слушает церковные службы, великим постом ест только три раза в неделю, а в остальные дни кушает по куску черного хлеба с солью, по одному грибу и одному огурцу. Даже рыбу за все семь недель поста вкушает всего два раза. Наверное, в своих заботах и духом не ведает, что творится в самых дальных украинах его державы. Не ведает, как подло кричит над пустой темной тропой птица короконодо. Учит правде: «Всяких чинов людям – суд и расправа одна». К народу выходит в печальных одеяниях, считает себя недостойным даже во псы, не только в цари. Но как даже такому великому государю обозреть сендуху, стынущую под низким небом?
Пришел наказ государев.
Объяснил казакам московский дьяк:
«Ехать в округи и в дистрикты для того: велено у всякого чина людей русских и иноземцев проведывать и купить разных родов зверей и птиц живых, которые во удивление человеком. И тех зверей и птиц велено отсылать в Москву ко двору, за что обещается царская милость».
И дополнительный реестр зачитал перед казаками:
«Звери соболи – чрево и хребет белые;
дикий марон, зверь инбиль;
бараны с величайшими рогами;
белки – чрево черное и хребет серые;
а где найдены будут если роги носорукого зверя, то приложить к ним подробное сыскание, чтобы кость до последнего члена того зверя, буде возможно, собрать в целости.