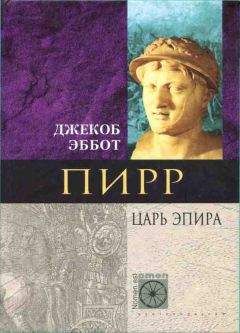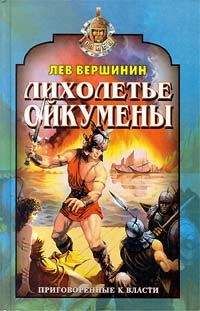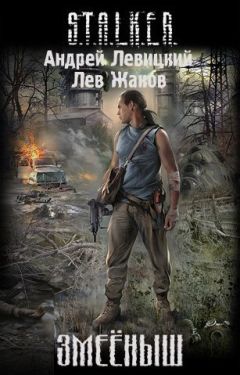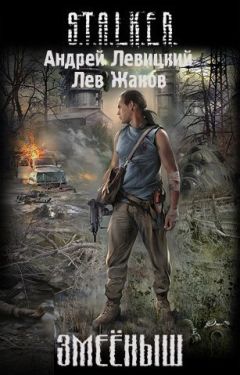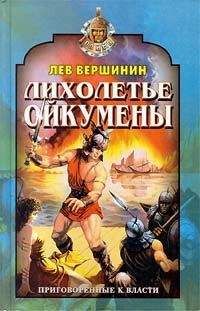Геннадий Прашкевич - Тайна подземного зверя
– Литовское, нехорошее, – подсказал Свешников.
– Отпусти казаков, Степан! – не отставал помяс. – У тебя жизнь изменится!
– С ума спятил! – Свешников ногой оттолкнул упавшего на колени помяса. Сказал, отворачиваясь к страшной реке:
– Вместе пришли, вместе уйдем.
Усмехнулся:
– А за тайну чертежика и бабы Чудэ спасибо. Казакам тебя не выдам. Но будешь строить воровские мысли, прибью. Кафтанову не отдам, и Гришке не отдам, никому не отдам, сам прибью.
Сплюнул презрительно:
– Ты людей перестал жалеть.
Опять отвернулся к реке, покачал головой. Вот веками стояла тихая сендуха, гнус в ней, олешки, рожи писаные. Весело, просто. Но пришел вор Сенька Песок и обобрал всех. Даже с особой жесточью обобрал. Даже зверь старинный носорукий и тот куда-то пропал, наверное, испугался. Теперь приходится ему, Свешникову, платить по воровским счетам. Даже государев шиш, шпион аптечного приказа Лисай тут не в помощь, совсем ослепили его жадность и всякие болезни.
Озлился вдруг на дикующих.
И было-то всех воров какой-то десяток. А позволили рожи писаные повыбить свои стойбища, сжечь полуземлянки и урасы, оттеснить себя на другой край сендухи. Остался в пустом зимовье один шиш государев. Вот, как сыч, хлопает страшными крыльями, следит за каждым, а особенно – за несчастной бабой. Кружит над Чудэ. Она для него, как ключик с утерянным секретом.
Зябко повел плечом.
Обрыв крут. Под обрывом ледяная вода.
Как мельничные колеса крутятся бешеные водовороты.
Вон льды несет, а вон черное бревно. Видно, что издалека – потрепанное. Может, встретится с тяжелым кочем кормщика Цандина. Завтра, решил, поставим на высоком берегу заметные деревянные и каменные туры, чтобы кормщик не прошел мимо. Дежурных поставим у костров, меньше будет времени для всякого баловства.
Обязательно придет Цандин. Кормщик умелый, о нем много знают в Якуцке. Пусть глубокой осенью, но поднимется по Большой собачьей, раз обещал. А разделять отряд, как предлагает помяс, неразумно.
Стоял на крутом обрыве, молча всматривался в смутную, в торопливую, в быструю воду. Щурил глаза: где там на горизонте высокая мачта-щёгла? Где там на горизонте крепкий коч кормщика Цандина? Качал головой: вот оговорился Лисай с гусем бернакельским, или еще не решил сказать?
Хотел повернуться, не успел.
Ахнул. Ударили в спину.
Низвергшись с обрыва, летел вниз.
Катился, руками хватался за мерзлые камни, в кровь срывал ногти. Вместе со Свешниковым обрушился мокрый песок, запрыгали тяжелые камни.
И снова тихо вокруг. Пусты берега Большой собачьей.
Глава VII. Дожди над Сендухой
Царя, государя и великаго князя Алексея Михайловича всеа Русии стольнику и воеводе Василию Никитичю Пушкину служилый человек кормщик Гераська Цандин челом бьет.
А лета 156-го в 10-й день сошед яз, холоп твой, на коче на реку Большую собачью сыскать зимовье сына боярского Вторко Катаева и весь ево завод на коч взять.
А коч плох, и как шли парусом с моря учинились ветры великия и навело из голомени большой лед. И тем льдом пихнуло коч на землю – насилу сняли, сами промокли, припас сушили пять дён.
А коч починя, пошли тою ж рекой, и судом Ево божьим праведным ветры вновь учинились – мачтой-щёглой прибило, сломав, хорошего вожа промышленного человека Ивашку Корепанова.
Сшед на берег, чиниться стали, что можно было чинить, а служилый человек Васька Манухин всех обманул – сам убежал посуху да от нас свел трех работных.
Так стояли – обступила самоядь.
И спрашивал яз: вы почто, самоядь, нас, государевых людей, обижаете, а с себя не платите государева ясака, живете в изобилии?
А те юкагире – дикие, неучтивые, они стали с нами дратца.
И мы, холопи твои, у Бога милости попрося, тоже стали над ними промышлять, как Бог подал помочи. И дрались с ними много времени, и Ево милостью и счастием своим побили юкагриех, а иные ушли изранены. И в том бою яз, служилый человек кормщик Гераська Цандин, холоп твой, бился явственно и поимал юкагирского мужика, коий горазд якуцкому языку. И тот мужик сказал, что слух есть, что на верхах большой Собачьей стоит русское уединенное зимовье, а людишки в нем частью занемогли, а частью дикующими зарезаны. Яз теперь так думаю, что указанные – это людишки сына боярского Вторко Катаева, им помочь нужна. Еще сказал юкагирский мужик, что зверь носорукий – он подземный, его никак нельзя уловлять. Ходит зверь под землей, а выйдет наружу – гибнет. Если даже уловить, по земле такого не поведешь, он погибель на воздухе обретает.
А наладив коч, пошли вверх по реке.
А июля в 4-й день все судно гневом Ево Божьим праведным разбило совсем, руль-сапец вырвало с корнем, в воде коч осел, песком его замело, добыть из воды невозможно.
А было нас двадцать человек.
И пошли мы, сами себе пути не знаем.
И милостию божией учинилось, что встретили людишек торгового человека Лучки Подзорова. Оне с заводом большим в устье стояли. И мы, холопи твои, того торгового человека всячески призывали, чтобы он, казны государевой и людишек государевых для, пошел бы вверх по реке Большой собачьей, как преж всюду бывало. А он, тот торговый человек Лучка Подзоров, будто ждал там кого-то. И мне так сказал: для чё буду морить своих людишек? И после подымал свои суда, заводил в тихую губу, и в той тихой губе по своим делам стоял еще шестери сутки.
Так думаю, ждал кого-то.
А что там в верхах реки Большой собачьей со служилыми людишками сына боярского Вторки Катаева творится, того не знаю, не ведаю. И поимали ли зверя старинного носорукого, о том я, холоп твой, тоже не ведаю.
Буде потихнет погода, утишатца ветры, может, сами кто придут на плотах.
К отписке сей кормщик Гераська Цандин руку приложил.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… а из тьмы, из слабых сполохов очага – голос серебряный:
– Тепло становится, кочевать начинаем. Озеро встретится, сети пускаем. Есть рыба в чёпке, в яме большой – хорошо живем. Нет рыбы в чёпке – без пищи ходим.
Серебряный голос то пропадал, то вспыхивал, звенел ручейком в тьме.
Подумал тоскливо: лочил нэдэй. Такую страшную бабу только в темноте слушать.
Лочил нэдэй, так подумал. Удивился, что не по-русски. Лочил нэдэй, огонь горит.
Лежал у стены на понбуре – на хорошо уложенных друг на друга оленьих шкурах. Под рукой деревянная чашка с горячей болтушкой. Подняв глаза, смутно различал наклонные жерди, схваченные закопченным ремнем. Медленно, в который раз сознавал: лежит в летнем нимэ. Лежит на понбуре в летней урасе, плотно крытой ровдужными пластинами.
– На место ночлега придешь, ночевье устроишь. Вечером другие придут. «Друг, – скажут, – белка есть?» – «Ну, совсем чтобы не было, такого нет, – скажешь. – Ну, есть немного». – «Друг, сколько сегодня убил?» – «Ну, сегодня двадцать убил». – «Однако, есть белка, жить можно. А особый след видел? Деда сендушного босоногого след видел?» – «Ну, особый след видел. След босоногого видел» – «С этим, однако, что делать будем? По следу деда сендушного пойдем?» – «Худо будет, если не пойдем. Худо будет, если испугаемся».
За урасой бродил отъевшийся оленный бык, похрустывал суставами.
На полу валялась тупая стрела томар, очень похожая на ту, что была найдена вожем Христофором Шохиным. Может, из одного колчана. У входа – большой берестяной короб. На коробе железный нож-палемка и непонятно откуда попавший в тундру русский гремок – легкий жестяной колокольчик. Наверное, занесли воры.
Тень бабы падала на стену, колебалась. Тихо шепча, бросала в огонь кусочки сала.
Расслышал:
– Ну, дедушка-огонь, худое будет, отведи в сторону. Хорошее будет – заверни ко мне.
Пронзило в который раз: сама с собой разговаривает.
Приходя в себя, всплывая из нехорошей тьмы, не сразу понимал – что с ним? где он? Снилось или наяву было? – страшная баба Чудэ, сидя у огня, падала – вздрагивала. Перепачканная в золе, обожженная, билась в корчах, пыталась выползти к порожку, а он, как мог, помогал бабе. Скорее, пытался помогать, сил не было.
Еще помнил: баба Чудэ рубила мясо на кожаном лоскуте, чудэшанубэ называется.
Надолго забывал: где, зачем? Потом вспоминал, но не мог понять.
Как в руинах, рылся в воспоминаниях.
Вдруг явственно видел любимый царский Саввы Сторожевского монастырь. На торжественной заутрене голосистый чтец, задумавшись, забыл о присутствующем в храме патриархе и начал жития обычным возгласом «Благослови, отче!». А царь Тишайший, государь Алексей Михайлович, гневно сорвался на крик: «Что ты говоришь, мужик, бляжий сын? Тут сам патриарх в храме! Ты не отче говори, а говори: благослови, владыко!» И бегает, расталкивает священнослужителей, за всем старается уследить.