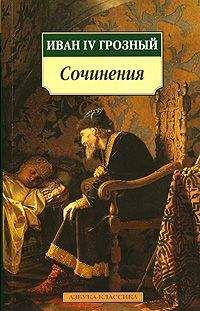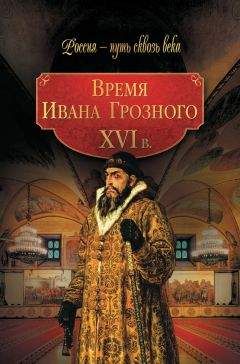Валерий Кормилицын - Держава (том третий)
— Отметим? — воспрял духом Глеб.
— Можно. Только мысленно. Цитирую полковника: Если у русского офицера нет водки, то, представив её вкус, пусть выпьет под ВОСПОМИНАНИЕ…
— Ну да. Спасибо. Пока Свешникова цитировал, я две бутылки ханшина успел уговорить… Под яркое ощущение праздника, — поднялся с бурки. — А вольнопёр в этот момент, возможно, пьёт в вагоне мой подарочный ханшин.
— Вы плохо думаете о людях, мсье сотник, — ухмыльнувшись, попенял товарищу командир. — Полагаю, он проводит время с сестрой милосердия…
— Разрешите, господин подъесаул, я тоже проведу немного времени с сестрой милосердия, — дурачась, щёлкнул каблуками.
— Не более часа, мой друг, — согласился Ковзик.
Быстро миновав деревушку и насаждения гаоляна, чуть запыхавшись, Рубанов в растерянности остановился у санитарных подвод, наблюдая за суетой и сборами.
В чувство его привёл толкнувший в плечо пожилой ездовой, с мешком крупы на спине.
Отойдя с тропы под берёзку, Глеб осмотрелся, узрев у одной из подвод красноносого санитара, и чуть не бегом направился к нему.
— Там! — глядя сквозь офицера мутными глазами, указал рукой направление.
«Вчера, видимо, весь запас дивизионного спирта вылакал, дабы врагу добро не досталось», — улыбнулся, заметив у подводы Натали, и тут же ему на грудь прыгнула Ильма.
Потрепав собаку за холку, подошёл к девушке.
— Глеб, а мы завтра в поход, — как–то отстранённо улыбнулась она, поправив над бровями белую косынку. — Грузимся вот, — аккуратно положила на подводу сумку с нарисованным красным крестом.
«Что–то ни переживаний за меня, ни волнения… Ильма больше чувств проявила», — поцеловал ей руку.
— Глеб, — мягко отстранилась она, — здесь же не Петербург.
— А здесь ты разве не дама? — дрогнул голосом от неожиданного внутреннего волнения.
— Здесь я — сестра милосердия… Дамы в перчатках ходят и в шляпках, — чуть подумав, чмокнула его в нос. — Пардон, господин сотник, хотела в щёку, но Ильма подтолкнула, погладила собаку, ласково улыбнувшись офицеру.
— Так исправьте недоразумение, — подставил он щёку. — Да не ты, Ильма, — шутя, оттолкнул намеревавшуюся лизнуть его псину. — На человека стала похожа… Поправилась, отмылась…
— Ага! Сама она отмылась, — потёк ни к чему не обязывающий лёгкий разговор.
— Мне тоже завтра в поход. Пришёл попрощаться…
— Ну что ты говоришь, — испугалась девушка. — Скажи: пришёл наведать… или навестить… А то — прощаться…
«По–моему, на самом деле переживает за мою жизнь», — обрадовался офицер.
Утром, до восхода солнца, бедовый казак, держа в руках папаху, просунул в палатку голову:
— Подъём, господа, — сладко зевнул он.
— Да чтоб тебя, Аника–воин, — ответно зевнул Ковзик. — Глеб, поднимайся, труба зовёт, — и взаправду услышал звук трубы.
Ёжась от утренней прохлады, Глеб выбрался из палатки.
Сотня кипятила чай. Казаки, как угорелые, носились с котелками, наливая в колодце воду.
— Ваши благородия, — подлетел к ним бедовый казак с парящим котелком, — завтрак подан, — ржанул он, радуясь ясному утру, показавшемуся за деревьями солнышку и лёгкому ветерку.
Ковзик у ближайшего костра, выхватив тлеющую ветку, прикурил добытую где–то сигару.
Как и много раз до этого дня, после молитвы двинулись в поход.
Глебу нравились именно первые минуты движения в боевом порядке, от возникающего в душе возбуждающего чувства риска, от чувства подстерегающей опасности, напрягающей и мобилизующей организм.
В эти минуты он чувствовал себя необыкновенно ловким, сильным и непобедимым.
Но вскоре острота чувств притуплялась, и он просто выполнял воинскую работу, которой его учили и которую постигал на практике.
Проехав два десятка вёрст и не встретив крупные силы противника, встали биваком, разбив коновязи и расседлав лошадей. Передохнув, направились дальше. Не встречая врага — расслабились. Дозоры беспечно двигались по краям полка. Подошли к деревне и тотчас китайские фанзы задымили, выбрасывая из печей высоко в небо чёрный дым.
— Сырым гаоляном печи затопили, — подъехал к Ковзику казак, беспокойно блуждая глазами по низким зарослям гаоляна. — Сигнал дают, что мы рядом, — скрипнул зубами, и тут же раздалась стрельба.
Но не из деревни, а откуда–то из–за неё.
Над головами казаков начала рваться шрапнель.
— К бою! — выхватил шашку Ковзик.
Полковник повёл полк в атаку. Деревня сходу была взята, но японцев нашли лишь несколько человек.
Артиллерийский обстрел закончился.
Высланные вперёд дозоры противника не обнаружили.
Слащаво улыбаясь и сняв конусные шляпы, китайцы кланялись, предлагая отведать бобов и попить чаю.
— Ну и продажный народец, — подивился казак. — Сжечь бы их фанзы, чтоб впредь неповадно было сигналы подавать.
— Свешников трогать китайцев не велел, — остудил его пыл Ковзик.
Выставив посты и заночевав в деревне, полк двинулся дальше.
— Красота, — бок о бок с Рубановым рысил на низеньком невзрачном жеребчике бедовый казак, время от времени поправляя сползавшую на ухо папаху. — За три дня несколько обозов захватили и немножко уничтожили. Сопротивления никакого. Не война — а крем–брюле со сливками, — облизнулся он. — Это зажаренный до хрустящей корочки юный поросёнок, тушёный потом в сливках, — объяснил Акиму. — Да под пшеничную, — захлебнулся слюной казак, поправляя слишком уж накренившуюся от тряской езды папаху. — А пуля — она и есть дурр–ра, потому как ни мозгов, ни глаз не имеет. И куда летит — не видит. Второй раз к Ляохе подходим, — поднялся на стременах, приложив к глазам ладонь лодочкой. — Искупаться бы. Как думаете, Свешников позволит?
Но от размышлений о водных процедурах его отвлёк приказ Ковзика: «К бою!»
Как выяснилось, посланные вперёд разведчики обнаружили, по их словам — неимоверно гигантский обоз, растянувшийся чуть не на семь вёрст.
Радости казака не было предела:
— Как я люблю захватывать обозы, — подбросил вверх пику и ловко поймал её.
В полчаса прикрытие было изрублено и до вечера собирали в кучи повозки и поджигали их. После столь тяжкой, но полезной работы Свешников разрешил искупаться.
Утром полк пошёл вдоль реки, наткнувшись на большую китайскую деревню.
— Рубанов, полковник приказал взять взвод и произвести пешую разведку, — указал шашкой на деревню Ковзик. — Сразу не полезем. Вдруг японская мышеловка.
Разведка расположилась в ста шагах от села в зарослях гаоляна.
— Ваше благородие, давайте вон на тот холм залезем и сверху глянем на китайскую станицу.
— Резонно! — похвалил казака Глеб.
Заросший невысокими дубками холм оказался изрезан весьма удобными для наблюдения канавами. А в сторону деревни спускался неглубокий овражек, покрытый ивовыми кустиками по краям и с щебнем на дне.
«Вот по нему и зайдём в деревню или эту, как её, китайскую станицу», — подумал Глеб, поднимая к глазам бинокль.
— Ну что там, ваше благородие? — сгорал от любопытства казак.
— Японский полк. Нападения не ожидают. Суетятся, как мы перед походом. Бегают друг к другу в гости из фанзы в фанзу и готовят на костре крем–брюле из поросятины…
Казак от зависти с шипением втянул сквозь сжатые зубы воздух.
И чтоб окончательно ввести его в раж, опустив бинокль, добавил:
— И щупают китаянок…
— Ну, прям — казаки на привале, — аж застонал от вожделения спешенный кавалерист.
— Завидовать врагу нехорошо. Полковник Свешников бы осудил: «Мадам Светозарская тоже», — возвращаясь к полку, сквозь улыбку, внушал казаку правила приличия светского человека.
Обдумав план атаки со старшими офицерами, полковник надвинул на лоб папаху:
— С Богом, братцы!
Три сотни казаков, спешившись, стараясь не греметь сапогами по щебню, пробирались по овражку к земляной, размытой дождями стене, окружавшей деревню.
— Ты чего в пеший поход пику–то взял, — ворчал на бедового казака Глеб, преодолевая последние несколько саженей[7] ползком. — Того и гляди товарищу задницу проткнёшь.
Сквозь огромную прореху в земляном валу казак увидел кипящий на костре котёл и чистивших винтовки японцев в расстегнутых мундирах и босиком.
Они весело и беззаботно болтали друг с другом, совершенно не думая о том, что рядом может быть враг.
— Вперёд, ребята, — лёжа на животе, вытянул перед собой руку Ковзик.
— С вас, каспадина енерала, только патриотичные картины писать, — поддел командира Рубанов.
— Какие ещё картины? — поднимаясь и выхватывая шашку, настраивался тот на бой.
— Каждый художник в своём стиле, — тоже выхватил шашку Глеб, глядя в сторону деревни и не вникая в смысл сказанного. — Шишкин бы написал картину «Ковзик и три медведя».
— Ибена лусхуйя пау–пау, япона ма–а–ть! — услышали рядом крик бедового казака, полностью настроившегося на бой и выплеснувшего на врага все познания иностранного языка.