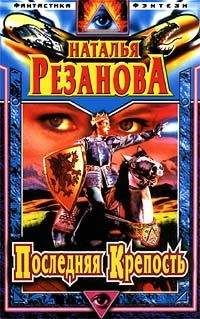Мария Сосновских - Переселенцы
Благодаря ее стараниям, лекарствам и наговорам бабки Евдонихи через неделю Елена, хотя и худая, бледная, как смерть, все же смогла сидеть на кровати, закутанная в теплую пушистую верховую шаль. Пелагея Захаровна, понимая, что Елене, может быть, не меньше, чем травы и припарки, нужны ободряющие слова, рассказывала снохе, вспоминая, как сама она рожала своих детей. Свекровь Палаши была к ней строгой; семья большая, сидеть да нежиться не приходилось.
– Я Петра твоего как родила? Кое-как успели приехать домой с покосу, как я легла и родила, легко и быстро, ровно блин испекла… И нисколько потом не лежала, а через день поехала опять на покос.
Пелагея Захаровна не помнила, чтобы в их роду хоть одна тридцатилетняя женщина рожала в первый раз. Последнее время ей становилось тревожно оставаться наедине с Еленой, в голову лезли ужасные мысли, надвигалось, точно грозовая туча, беспокойство за сноху.
В глубине души она была сердита на сына: не будь он таким жадным к наживе, женился бы вовремя, на молодой девушке, по любви. Теперь уж дети выросли бы большие, да и они с Василием Ивановичем были бы помоложе и могли помочь.
Пелагея Захаровна за последний год заметно постарела. Ее когда-то густая темно-русая коса поредела, побелела, как снег, лицо избороздили морщины.
Неженатым был сын – была забота. Женился – тоже забота не меньшая.
Все усилия прилагала свекровь, чтобы поскорее вылечить Елену и перед родами поднять на ноги. Поила чаем с малиной, парила липовый цвет, березовый и смородинный лист. Елена поправлялась медленно. И не успела поправиться и по-настоящему встать на ноги, как почувствовала приближение родов. Всю ночь она не могла заснуть из-за боли в животе и в пояснице, нестерпимая боль пронзала ее все чаще и чаще. Утром она сказала Петру, собиравшемуся, как всегда, на заимку:
– Петя, остался бы ты сегодня дома… Плохо мне.
– Родишь и без меня! Надо будет – старики за повитухой пошлют!
Елена была в таком состоянии, что ей нужно было внимание как раз мужа, а не его отца-матери… Свекор со свекровью и так делали для нее все, что могли.
Когда Петр пошел запрягать, а потом послышались ржание и топот копыт Буяна, она залилась неудержимыми слезами, в первый раз серьезно покаявшись, что пошла замуж за Елпанова и вот теперь решила родить.
Страшная боль пронзила Елену. Прибежавшая на крик роженицы Пелагея Захаровна подошла к постели:
– Сейчас, сейчас, Еленушка, повитуха придет, ты уж потерпи, милая!
Свекровь проворно оделась и, на ходу крестясь дрожащей рукой и шепча молитвы, побежала звать повитуху. Было еще темно. В деревне хозяйки начинали топить печи и управляться со скотом. Утро было морозное. Над Киргой стоял туман.
Остановившись, Пелагея Захаровна встревоженно думала, куда ей идти. «Лучше, конечно, к Феофанье Евдонихе, так ведь она уже старуха на восьмом десятке… Ивана Прядеина баба тоже родильницам не раз помогала… Как же ее звать-то? Парасковья… а вот чеевна – и не помню».
Постучалась в ворота Прядеиных. Прасковья стряпала хлеб. Не спрашивая, зачем пришла Пелагея Захаровна, она оделась и сказала снохе, вошедшей с полным подойником: «Ты, Овдотья, сама тут достряпывай, да в сильный жар-то хлебы не сади! Я сейчас к родильнице пойду, не знаю, когда и возвернусь».
Когда вышли на улицу, Прасковья спросила:
– Давно она мается-то?
– С ночи еще. Первые роды, а в годах ведь уже она…
– У всякой по-своему быват… Бог даст – к обеду разродится!
Прасковья помолилась на образа, поздоровалась, разделась, погрела о печку руки и пошла в горницу, откуда доносились стоны.
– Воды отварной приготовь и все чистое!
– Все готово уж! – отозвалась Пелагея Захаровна. По требованию повитухи она принесла еще вересовника и богородской травы.
– Неси сюда горячих углей: окурить надо родильницу-то вересом, чтобы дух легкий был в горнице! – распоряжалась Прасковья.
На рассвете Елена родила сына. Помогла ей все та же бабка Евдониха, за которой в ночь-полночь пришлось бежать свекрови роженицы: Прасковья такие трудные роды не принимала еще, а под конец совсем растерялась.
Везти крестить новорожденного в Киргу побоялись – далеко, а на дворе вроде и не март, а студеный январь – так было холодно. Попа привезли в елпановский дом, и он, вместо церковной купели окунув младенца в кадушку с подогретой водой, окрестил еленина первенца.
Так в деревне Прядеиной стал жить и здравствовать Иван Петрович Елпанов. Только что явившийся на свет человек многое изменил в жизни семьи. Петр Васильевич после рождения наследника относиться к жене стал внимательнее. А Елена, оправившись после родов, так и сияла от счастья, она похорошела и даже, кажется, стала моложе.
Боже! Как она любила своего первенца! Ради него она чуть не лишилась жизни, но все это – в прошлом. Теперь у нее есть сын, надо сберечь и вырастить его.
Елена верила: пройдут годы, и она станет полной хозяйкой в елпановском доме. Может, муж привыкнет к семье, может, у них еще родятся дети? Будет Петр любить детей – полюбит по-настоящему и ее. Ведь бывает, что любовь приходит только с годами. А не придет – ну что ж, она будет жить ради детей.
…После голодного 1751 года и следующей холодной весны, задержавшей сев, исхудавшие от недоедания пахари потащились в поля с сохами, принялись на отощавших за голодную зиму лошадях кое-как засевать свои полоски… Весна, хотя и поздняя, кажется, посочувствовала измученным людям. Скот скоро стал наедаться, коровы прибавлять молока. Крестьяне с надеждой и радостью смотрели на первые всходы. Вовремя прошедшие июньские дожди вдосталь напоили поля и луга драгоценной влагой. Все прядеинцы от мала до велика радовались, глядя на высокие травы, на густые хлеба. Год обещал быть добрым.
…Баба на плоту усердно колотит вальком белье, потом полощет его, поднимая фонтаны брызг, так что сидящий с удочкой дед кричит ей:
– Да скоро ли ты уберешься отсель – всю рыбу распугала!
Баба, подбоченившись, огрызается:
– Лучше б ты убрался куда-нито! Имай своих пескарей там, где добры люди имают!
Потом она, перекликнувшись с бабами на других плотах и неся тяжелый ворох белья, уходит, а над деревней еще долго слышится перестук вальков.
Тифозное поветрие
Где-то на краю деревни запиликала гармошка, девки завели частушки «про миленочка», и на берегу Кирги стало весело.
По весеннему времени молодежь веселится на улице допоздна. И то сказать, не больно много доводится отдыхать парням и девкам в деревне. Скоро Петров день – жаркая пора сенокоса, а там и главная страда подоспеет: начнется жнитво. Гулять да хороводы водить не придется до самого Успенья.
А многим девкам и гулять осталось только до свадебной поры – Покрова. Нагрянут сваты – в нарядной бричке, в простой кошеве, а то и на дровнях – и отдадут девку замуж, увезут, как в песне поется, «во чужу деревню, во чужу семью».
Июнь-июль в Зауралье – самая комариная пора. Комаров вблизи болот и на покосах, когда еще не успели обкосить травы, собираются нсметные тучи. С Ильина дня комарья убывает, но еще долго донимают пауты, мухи и мелкая мошкара, особенно когда дело идет к дождю.
В елпановском доме все женщины вплоть до сенокоса сидели за кроснами.
Петр спозаранку и дотемна пропадал на Кирге. Плотина была уже готова, и теперь ставили большую мельницу-водянку.
Петр вставал с восходом солнца, будил работников, и уже в тот час, когда бабы выгоняют на пастбище скотину, далеко были слышны стук топоров и визжанье пил.
Василий Иванович еще много работал по хозяйству, хотя ему уже доходил шестой десяток и стали сильно болеть ноги и спина. Вечерами после работы в кузнице Елпанов-старший садился на порожек сеней, брал на руки внучонка и серьезно говорил:
– Ну что, Иван Петрович? Как живешь? Опять, поди-ка, мамке спать не дал сегодня?
И вздыхал, покряхтывая от боли и гладя мальца по голове:
– Сидеть бы нам с тобой дома, да некогда, работы много! Ой, Иванко, болят, болят у меня ноги, а спина ровно разваливается. Ну, ниче не попишешь, знать-то, отходили ноженьки по дороженьке… Да-а-а, сколь ими исхожено – и не сосчитать. Вот оно когда все сказывается-то…
– Мать! – звал дед Василий Пелагею Захаровну, – где ты там есть? Неси шайку с теплой водой! Может, в воде хоть отойдут ноги-то мои… Доживу я, мать, видно, до того дня, что, как дед Данила, летом в пимах на завалинке сидеть стану – вот беда-то будет! А ведь мне до его-то годов долго еще, боле двадцати… Как теперь вижу, как он ногами да спиной маялся, сердешный, царство ему небесное! Тятя ведь еще молодой был, когда мы из родных краев сюда тронулись!
Пелагея Захаровна подносили шайку с водой, ставила ее у ног мужа в вступала в разговор:
– Окстись, отец! Какой он шибко-то молодой был? Я помню, что ему в тот год, когда мы поехали, пятьдесят второй пошел, только что он был намного тебя здоровее, не такой изробленный. А ты, если так будешь робить, скоро и вовсе ходить не заможешь. Че теперь – помирать на работе на этой, ли че ли?!