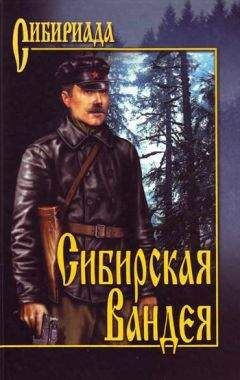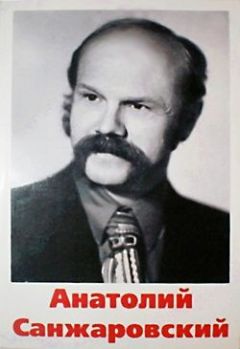Дмитрий Барчук - Сибирская трагедия
За этими словами она стремилась скрыть собственное смущение от того, что посторонний человек из благородного общества застал ее в таком непотребном виде. Мне же было безразлично, о чем говорить: лишь бы говорить с ней.
– Вы ошибаетесь, Полина. Я молчал целых семь с половиной лет. Объездил всю Европу, лечился у самых знаменитых докторов, но никто не смог мне помочь. А с вами вдруг взял и заговорил. Это чудо совершили вы!
Она смотрела мне прямо в лицо, пристально и недоверчиво, словно изучала, что происходит у меня внутри.
– А вы не обманываете? – тихо спросила девушка.
– Нет. Никогда в жизни я не был более искренним, чем сейчас.
Полина немного успокоилась, напряжение с нее спало.
– А вы к Андреевым по делу или как? – поинтересовалась моя барышня-крестьянка.
– Ах, совсем из головы вылетело, – я стал рыться в карманах в поисках конверта. – Вот, будьте так любезны, передайте, пожалуйста, Анне Ефимовне от Григория Николаевича Потанина. Здесь, кажется, деньги.
Она бережно взяла конверт и поблагодарила:
– Спасибо. Они будут очень кстати. Только тети дома нет. Она поехала в ломбард – закладывать какие-то ценности. Нина и Вера сейчас на службе. Поэтому я вас в дом не приглашаю. Но если вы сможете подойти в субботу к обеду, то, я думаю, все будут очень рады вам. Придете?
– Непременно.
Крепко сжимая в руке конверт, она вернулась за ведрами, подняла их и крикнула:
– Ну идите же!
– Вы меня уже гоните?
– Нет, но баба с пустыми ведрами – плохая примета.
– А я не верю в приметы.
– Зато верю я. Ну, пожалуйста, – взмолилась Полина.
– А вы будете меня ждать?
– Больше всех.
Услышав ее ответ, я как на крыльях пустился обратно. Я был на седьмом небе от счастья.
За годы молчания мой характер претерпел значительные изменения. В принципе, я вообще научился обходиться без слов. Лишь изредка, когда возникали щекотливые ситуации и речь была жизненно необходима, я прибегал к помощи карандаша и блокнота. А сейчас, когда способность говорить вернулась ко мне, у меня не возникло ни малейшего желания безрассудно пользоваться ею. Я понял цену и силу слов. Для меня они были равносильны оружию, которое следовало применять весьма избирательно. Это, конечно, замечательно, что я вновь заговорил. Но ведь если у казака есть шашка, он же не машет ею постоянно. Она зачехлена в ножнах и ждет своего часа.
Окружающие меня люди свыклись с тем, что я немой, и даже находят преимущества в этом моем положении. Полагаю, что и Муромский доверил мне свои конфиденциальные дела потому, что я не могу разболтать о них первому встречному. А Потанин вообще видит во мне родственную душу, собрата по несчастью. Пусть уж все останется, как было. Голос мне нужен только для общения с Полиной. Для остального мира я буду немым!
К субботе погода испортилась. С утра зарядил холодный дождь, а к полудню, когда я подъехал на извозчике к парадному крыльцу Андреевых, ливень хлестал как из ведра. Я расплатился и еще в пролетке раскрыл зонт. По придорожной канаве несся поток мутной воды. Я легко перепрыгнул через него и оказался на дощатом тротуаре. В ближнем окне первого этажа за струями дождя маячили какие-то тени. Меня ждали.
Дверь распахнула сияющая Полина, теребя в руках кончик своей длинной косы.
– Я так ждала вас! – выпалила она с ходу и покраснела.
– Я тоже мечтал видеть вас, – тихо произнес я и еще тише прошептал. – Пожалуйста, не рассказывайте домашним, что я снова заговорил. Пусть это будет наш с вами маленький секрет.
– Ой! А я уже проболталась Нине. Мы живем с ней в одной комнате. У меня нет от нее тайн.
Я даже не смог нахмуриться, ее раскаяние было столь искренним, что она сама чуть не расплакалась.
– А Нина умеет хранить секреты?
– О да! – радостно воскликнула Полина. – Пока вы раздеваетесь, я ее предупрежу.
В гостиной меня поджидало все семейство, за исключением молодого человека в косоворотке с забинтованной головой – по возрасту мне ровесника, состоящее сплошь из представительниц женского пола. Мать – Анну Ефимовну – время не пощадило. Цветастая блузка и накинутая на плечи серая пуховая шаль не только не молодили ее, а, напротив, подчеркивали преклонный возраст. Узкие, плотно сжатые губы, выпуклый подбородок и взгляд уставших глаз, направленный не в лицо, а куда-то поверх головы собеседника, выдавали в ней женщину властную, на долю которой выпало немало жизненных испытаний. Ее дочери тоже не отличались красотой. И если бы я не знал, что они прекрасно образованы, обучены музыке и другим изящным искусствам, то по внешнему виду скорее бы отнес их к крестьянскому сословию, чем к интеллигенции. Старшие сестры – Нина, Мария и Люба – были со мной приблизительно одного возраста, но выглядели более зрелыми. Младшие – Надежда и Вера – Полинины ровесницы.
После барышень представился раненый кавалер, пожав мне крепко руку, и спросил:
– Вы не узнали меня, Пётр Афанасьевич?
Я пригляделся. Да, именно с ним разговаривала Полина в тот вечер на бульваре.
– Я – Григорий. Мы с вами встречались в девятьсот пятом году на демонстрации. А потом вместе митинговали в осажденной казаками Бесплатной библиотеке. Я был тогда с Полиной. Ну что, вспомнили?
Я закивал головой, обрадовавшись, что это оказался никакой не соперник, а всего лишь двоюродный брат.
– Вам тогда здорово досталось. Но вы вели себя как настоящий герой. Столько людей спасли!
Я не любил вспоминать революцию и поспешил перевести разговор на другое, вопросительно показав на забинтованную голову Григория.
– Это пустяки! – отмахнулся он. – Конь лягнул.
– Никакие не пустяки! – возмутилась Нина. – Представляете, Пётр Афанасьевич, перед самым папиным отъездом Гриша вывел из ограды Орлика, чтобы показать его покупателю. А тот сам приехал на лошади. Вдруг Орлик, увидев чужую кобылу, взвился на дыбы и прямо копытами грохнулся Грише на голову. В двух местах рассек ему кожу. Боже, какой это был ужас! Когда брат повернулся к нам лицом, мы с мамой чуть не попадали в обморок. Вся его голова была в крови. Она хлестала ручьями из ран, струилась по лицу, заливала глаза, рот и рубашку. Прямо как царевич на картине Репина «Иван Грозный убивает собственного сына». Но самое ужасное, что Гриша никак не среагировал на ранение, а продолжал держать Орлика под уздцы, пока не завел в конюшню. У меня до сих пор стоит в ушах мамин крик: «Гриша! Уйди! Ведь он убил тебя!» А брат еще нас успокаивал, мол, это пустяки. Хорошо, что хоть череп уцелел, а то были бы тебе пустяки.
– Ну хватит причитать! – взмолился Григорий. – Живой остался, и слава богу.
Анна Ефимовна позвала всех к столу и сама первая заняла место в центре по праву главы семейства.
– Это что же, географическое общество выплатило Григорию Николаевичу компенсацию за каркаралинскую экспедицию? – неожиданно спросила она.
Я чуть не поперхнулся куриным супом и не нашел ничего лучшего, как кивком головы подтвердить ее версию.
– Я так и подумала. Редакция «Сибирской жизни» никогда бы не расщедрилась на такие гонорары. А вы, значит, у Григория Николаевича кем-то вроде секретаря служите? Поди на общественных началах, из любви к науке?
Я вновь кивнул.
– Вот-вот, из‑за такого энтузиазма и бескорыстия происходят все беды. Мой Александр Васильевич тоже беззаветно служил науке, справедливости и Сибири, за то и пострадал. Каково под старость лет оказаться женой политссыльного, без денег, с пятью девками на руках? О дочерях подумал бы, прежде чем в политику лезть. И зачем он ввязался в эту стачку приказчиков? Говорила же ему: надо переезжать в царство Польское[72], пока была возможность, но он уперся. Не могу, дескать, свою душу приносить в жертву Мамоне[73]. Я – сибиряк и должен работать здесь для умственного и духовного развития родины.
За столом установилась гробовая тишина.
Анна Ефимовна поняла, что переборщила с эмоциями и спросила меня уже спокойным голосом:
– А чем вы, Пётр Афанасьевич, зарабатываете на жизнь?
Я уже потянулся в карман за блокнотом, но на помощь мне пришла Полина.
– Господин Коршунов, тетя, служит помощником у Петра Васильевича Муромского.
– Доброе дело, – похвалила жена Андреева. – Этот господин, хоть и играет в революцию, но зарабатывать умеет.
Я все-таки достал блокнот и написал, что кроме этого я имею сбережения в банке и в трудное время смогу прожить на проценты с капитала.
Полина зачитала мою запись вслух, и в столовой снова стало тихо.
Молчание прервала Анна Ефимовна.
– Вот за какого надо выходить замуж, дурехи! – пожурила она дочерей. – А то водите в дом одну шантрапу. Что ни жених, то гол как сокол.