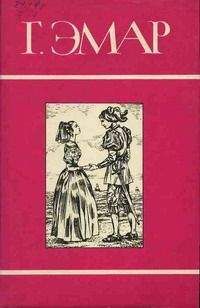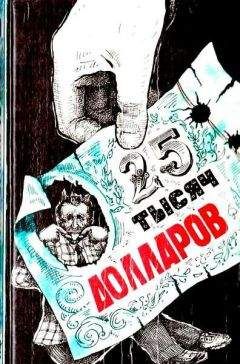Аркадий Савеличев - А. Разумовский: Ночной император
«Глубокие реки потекут от моря назад к своему истоку, солнце побежит назад, поворотив своих коней, земля понесет звезды, небо будет разрезано плугом, волна загорится, а огонь даст воду…»
Как можно было жить в России с такими мыслями, как?!
В почетную ссылку, с глаз долой, отправлен Антиох Кантемир, посланником в Англию. После шести лет, слышала Елизавета, переведен в Париж. Если и доходили до нее вести, так под учтивым дипломатическим флером. Всего на год и старше ее Антиох-пересмешник, а, говорят, старик стариком. А она-то?..
Подумать страшно, что скажет зеркало! Нет, не то, что в оправе отцовской работы, — любил царь-батюшка на станке безделухи резать. Заграничное зеркало — душа любимого Черкесика. Его, Алешенькина привязанность. Разве она-то — не зеркальце его ненаглядное? Потому и не грустилось ей, как рано состарившемуся Антиоху. В подражание ему, еще петербургскому, молодому, на сочинительство веселых песенок тянуло. Женское естество прямо вопрошало:
Для чего не веселиться?
Бог весть, где нам завтра быть?..
Самой ли написалось, списалось ли с кого — какая разница. Ей принадлежал этот грешный мир. Бегая из горницы в горницу, она распевала на все четыре стены. Хозяйские дела маленько поправились — подновились и расширялись стены на дальнем Царицыном лугу. Да хоть и в Гостилицах — стараньями Алешеньки там тоже знатная стройка идет. При скудости кошеля, при недружелюбии большого двора, да что там — при явной вражде. Отвергнутая, злорадно забытая. Ждущая монастыря ли, расправы ли еще худшей?..
А душа-то поет! Вроде и нет ничего грязного. Дивятся люди, плетущие вкруг умирающей императрицы истинно рыбацкие сети. Как ни велика рыбища, а воли не больше, чем у арестантки-цесаревны. У нее — своя воля, любовью называется. Возьмите ее! Герцог Курляндский уж на что хват, а против цесаревны опускает сплошь окольцованные руки:
— Не изволите сказать, что так веселы, ваше высочество?
— Не изволю… потому что и сама не знаю, ваше величество.
Величество — это уже царское обращение. Но Бирон принимает как бы по праву. Дни Анны Иоанновны сочтены, она уже и при поддержке его властной руки на люди показаться не может. Ноги отказывают… а может, и душа?..
Амурные намеки охраняющего падающий трон Бирона… или любезность привычная?
— Что трон без красы земной!
Тут можно бы и возразить, на его-то житейском примере, но одного неосторожного слова достаточно, чтоб напоследок тяжкого царствования под топор попасть. Раз уж самого канцлера, умницу и российскую надежу, Артемия Петровича Волынского, как непотребного разбойника, четвертовали… Какова после этого власть изгнанницы-цесаревны?
Грубостью на зазывные речи всесильного прельстителя отвечать нельзя. Только женская уклончивость, с расчетом на божеское время:
— Ах, ваше величество! Не смущайте тихую золушку. Видите, по первому зову я приезжаю во дворец, а как можно без зова? Нельзя напрасно тревожить государыню.
— Нельзя… пока нельзя, премудрая цесаревна. Но извольте далеко не уезжать. Не похитил бы вас какой разбойник?
Возвратясь в свой дом после таких речей — прямо в придворном платье на постель кинешься. Хоть и платьев-то — раз-два, и обчелся. В долги влезать приходится, даже странно, что еще дают. Истинно, царская жизнь!
Но долго печалиться — не в ее натуре. Стоит скинуть придворное платье, как на радостный зов:
— Душка-Дусенька!
А та уж знает — с чего уж это.
— Да дожидается, государыня-цесаревна. Весь измаялся, пока вы во дворец ездили.
— Так чего стоишь… дура! Зови.
А уж явился с извинительным, но не робким поклоном:
— Чего прикажете, господыня?
Она внимательно на него посмотрела:
— Сколько времен мы знаемся?
— Не считал, господыня.
— А ты посчитай, Алешенька, ты посчитай!
— В голове помутилось… Лизанька…
Она чувствует, с каким трудом ему дается последнее слово. Сколько раз просила, даже повелевала — с глазу на глаз попросту звать, а все напрасно. Не выговаривается у него совсем нетрудное словцо. А раз уж выговорилось, поощрить надо.
Руки ее привычно перебирали смоляные волосья. От головы к усам, от усов к бороде. Истинно, Черкес! На улице показаться нельзя: слишком приметен. Но не сидеть же сиднем в четырех стенах. Настюшка Михайловна, подружка разбитная, и то советует: «Да обрей ты своего Черкеса! Смотри, примечают разные подхалюзники…» И ведь не откажешь ей в прозорливости: следят-выслеживают… Потому и держит его чуть ли не взаперти. Но — что станется с мужика, прокопченного от дурных печей?
— Вася! — без всякой вроде бы мысли возникает очередной зов. — Жив ли ты, Вася?
Не было у нее, как при большом дворе, ни звонких серебряных колокольцев, ни расторопных камердинеров — все собственный голос решал.
Довольно изрядный, особливо во гневе. Услышал Вася Чулков, истопник незаменимый, прямо с медной кочергой прибежал.
— Чего изволите, государыня-цесаревна?
— Изволю, Вася, лоб твой… кочережкой вот покрестить!.. — Она кочергу вырвала, руку измазала, о платье было вытерла, и там сажа — ну, жди грозы! Но ведь непредсказуемо женское сердце. Вася из тех же верных людей, что и Алешенька. Кажется, пораньше его объявился… уж и не упомнит, забылось. Под минутным воспоминанием — вместо грозы смех:
— Ой, Васенька-трубочист! Когда печи дымить перестанут?
— Когда печника изволите нанять, государыня-цесаревна.
— Так найми, приведи… Как его?.. Онисим!
— Онисим. Да не идет без денег, стервец! Избаловали большие бояре. Я, ежели, кого поскромнее поищу.
— Поищи, Васенька, поищи. Что я еще хотела сказать?..
Забылось, возьми ты его, словцо?
И вместо светлой улыбки, как минуту назад, новый крик:
— Так ступай! Чего торчишь?
Оставив кочергу в царской ручке, он поклонился и вышел.
Кочерга вслед, к дверям полетела.
— Ду-уська!
Эта что-то долго не приходила. Следовало ожидать, как заявилась, очередного предгрозья. Но вместо того:
— Что-то я тебе хотела сказать?..
— Да про брадобрея, поди, государыня-цесаревна.
— Верно, Дуська! Беги, ищи. Да чтоб бритва у него поласковее была. Чего стоишь?
А Дуська уже и не стояла. Она двери толстым задом чуть не вышибла от радости. Настасья Настасьей, а первой-то ее подсказка была: надо привести Черкеса в божеский вид, Имелось в виду: обкорнать под парик.
Прибежавший на зов Алексей на колени бухнулся:
— Господыня! Как я буду без бороды?
— А без головы?
Спорить не приходилось: без головы плохо…
— Молчишь, Алешенька? С разрешения государыни тебе звание гоф-интенданта присвоено, смекай. Да приметен ты, в глаза дурные бросаешься. Парик, он всех под одно лицо делает. Не спорь! Сегодня же приличный лик обретешь.
Они и поспорить, и утешиться не успели, как все сошлось: и печник, и брадобрей, называвшийся по-иноземному, цирюльником. Право, будто единое дело делали: в совместном поклоне сошлись:
— Постричь? Побрить? Кого?
— Трубы почистить? Печи поправить?
Елизавета расхохоталась:
— Да вы хоть не перепутайтесь! Кто стригун и брадобрей — за мной ступай. И ты, Алексей! — уже без обиняков велела.
Повела его в туалетную комнату, примыкавшую к спальне, а следом и брадобрей затопотал. Немец ли, француз ли — ни бельмеса не смыслит. Но дело свое, похоже, знал. Как горячая вода и мыло с Дуськиных рук явились — начало-ось!..
Ножницы залязгали!
Жгучая бритва запосверкивала!
Гребень костяной по голове пошел!
И голос Елизаветы просительный:
— Да ты полегше, полегше, коновал.
Но ведь истинно: работой увлекся, напевал что-то. Да что — непотребство французское. Елизавета-то распрекрасно понимала: все-таки когда-то, еще при матушке, была у нее учительная мадам. Думая, что его никто не остановит, уличное хулиганство распевал. Ну и влепила ему с правой руки, отнюдь не французской худосочности. И сказанула уже на его родном языке, добавив по-русски:
— Козодой охальный!
Без заглохшего песнопения дело пошло споро. Часа в полтора управился брадобрей. Елизавета ему по-французски, чтоб Алексей не противился, подсказывала — там убрать, здесь оставить, а что под парик — только подправить. За что же драть Алешеньку, коли провинится?
Как под конец этой пытки зеркало ему подсунула — он смотрел, смотрел на ощипанного, незнакомого человека… Так и грохнулся головой о туалетный столик:
— Що вы з мени зробыли?!
Брадобрей от этого дикого вопля перепугался. Но Елизавета щедро потрясла ему из лежащего тут же на столике кошеля — прямо на крыльях вылетел вон. Алексея же за оставшуюся чуприну поласкала:
— Вот и видно, что дурак ты, Алешенька. Парик мы подберем волосам твоим под стать. Все девки на тебя заглядятся!