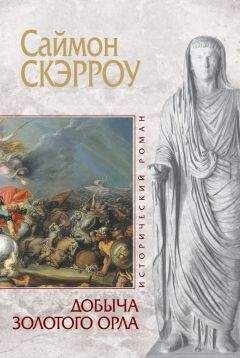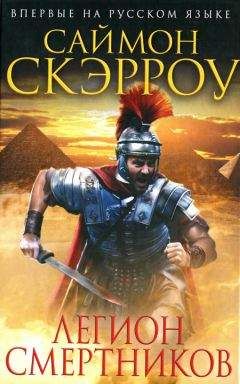Ирина Головкина (Римская-Корсакова) - Лебединая песнь
Возвращаюсь к тому, что говорила по поводу своей мысли, – она уже величиной с дерево, но может случиться, что я еще обрублю этому дереву ветви и вырву его с корнями.
22 декабря. Две недели провела в больнице имени Раухфуса у кровати Сонечки, она подхватила дифтерию, и так как врач не сумел распознать вовремя, прививка была сделана только на вторые сутки, вследствие чего явилась опасность для жизни; сейчас она, слава Богу, уже миновала. Надеюсь сегодня выспаться после стольких бессонных ночей. Голову так и клонит, глаза слипаются. Горячие щеки… полураскрытый ротик… потный лоб, к которому прилипли колечки волос… Сколько я видела больных и умирающих, но ребенок, выращенный собственными усилиями, такой маленький и очаровательный… Потерять такого ребенка… Какое счастье, что опасность уже позади!
23 декабря. Я на квартире одна. Сонечка еще в больнице, Славчик – у Марины Сергеевны. И чем дольше он там останется, тем безопаснее. Меня же по-прежнему ничто неймет, даже дифтерийная палочка.
Странно, однако, оказаться без детей… Пустота, тишина… Растут и роятся думы, как бывало прежде. Их, видно, плодит и питает именно эта тишина. Олег… В последнее время я думаю о нем гораздо реже… в силу занятости, наверно. Олег – герой моей юности, прошлых и грядущих – воображаемых – битв. Многое изменилось с тех дней и в моей жизни, и в окружающей меня действительности. Я чувствую, что сознание мое неудержимо ширится и растет, точно мне вспрыснули в мозг дрожжи. Мне кажется, это находится в связи с тем отрешением от эгоизма, к которому меня принудили обстоятельства. Многое хочется сказать.
Я девочкой была, когда совершенно самостоятельно нащупала мыслями мистический лик России – великий дух нации в известном ее значении. В те дни представителем его на земле казался мне император, которого я воображала впереди полков на белом коне, на манер Скобелева. Трезвое наше семейство живо вытравило из меня институтские иллюзии, хотя патриотизм в целом подогревало. Позднее я связала идею Родины с белогвардейским движением; я и теперь преклоняюсь перед героизмом многих тысяч белых и офицерскими атаками, но мессианская идея, руководившая лучшими из них, уже умерла. Пролитая за эту идею кровь, может быть, послужит искупительной жертвой; она не получила свою награду здесь, но по ту сторону жизни, я верю, зачтется и будет принята на алтарь любви к Родине, как и кровь красноармейцев – таких, каким был, например, Вячеслав.
Большевизм… Процесс этот самобытен и глубоко органичен. Он слишком значителен, чтобы насильно – вмешательством извне – притушить его. Я вынуждена прийти к мысли, что и в нем должны быть черты все того же дорогого мне Лика, конечно, страшно искаженные. Диктатура пролетариата – омерзительная, роковая ошибка революции, осложнившая надолго пути России. А сейчас даже и этой диктатуры нет, а только диктатура Чудовища. Но святое тело России все-таки здесь, и я не могу допустить даже в мыслях, чтобы его растерзали на части, как Господнюю ризу. В случае войны я… с большевиками! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать эти строчки, но так я прочла в своей душе! Сейчас на арене нет другого правительства, которое могло бы охранить наши границы, а на большую страну неизбежно набрасываются хищники. Россия в муках рождает новые государственные формы и новых богатырей, для которых все классовое уже должно быть чуждо, как дворянское, так и пролетарское, одинаково. Я ошиблась в сроках великой битвы, я ошиблась в источнике новой силы. Никакой реставрации, никакой Антанты! Россия спасет себя сама, изнутри. «Закат!» – говорит Юлия Ивановна. За закатом придет рассвет!
Будет долго Родина томима
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны!
Слезы сжимают мне горло. Наступит ли день, когда откроются двери тюрем и лагерей и будут возвращены все, кто безвинно принял страдание? Боюсь, что это будет еще не скоро, и те, о ком я думаю, не доживут до этой минуты, как не дожили Олег и Ася. Это будет началом «света с Востока». Тут мои чаяния сливаются с чаяниями Мери и Мики.
24 декабря. Сегодня мне снился огромный костер, котел над ним и Чудовище, которое помешивало в котле половником. Вокруг в молчании стояло множество народа. Светило только пламя костра; в котле что-то трещало, кипело и плавилось; я думала: он плавит наши жизни, но должно же быть тайное оправдание, та или иная сверхчеловеческая цель в этих гекатомбах жертв? И вдруг я увидела у котла Асю: она была вся прозрачная, в голубых тонах, со светлым лбом; Чудовище захохотало, схватило ее за косы и швырнуло в котел. Я проснулась в ужасе… но, раздумывая, пришла к мысли, что в этом сне есть связь с моей идеей об искупительных жертвах – жертвах всесожжения.
25 декабря. Перечитываю Гумилева и думаю об Олеге. Его образ неизменно вырастает за такими строчками:
…Тот ли это, или кто другой
Променял веселую свободу
На священный долгожданный бой.
Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.
В этих строчках дан образ человека, который весь захвачен любовью к Родине и ради нее не жалеет собственной жизни. Надо внедрить в Славчика ощущение личности отца через эти строчки. Я уже давно сказала себе, что буду говорить с ним в день, когда ему минет 18 лет. До этого дня я буду молчать – это я умею! Я не хочу разменивать больше мысли на мелкую монету прежде, чем они будут ему понятны все в целом. Я являюсь ближайшим другом его отца – это большая гиря на чаше моего влияния. Это должно помочь мне уберечь Славчика от растлевающего духа времени – безверия и шкурничества.
Моя мысль, разросшаяся в дерево, – сейчас подходящий момент высказать ее. Вот она: в будущем я должна передать Славчику этот дневник! Образ его отца запечатлен в нем почти на каждой странице: с момента первой встречи в госпитале до дня казни; я цитирую его слова, его мысли. Это портрет человека в страшный, переломный момент истории, когда ему довелось существовать и действовать. Читая, Славчик пройдет все этапы наших надежд, разочарований и мук и подойдет вплотную к идее очищения и обновления Родины.
Мудры Божественные пути! Я любила безнадежно, но любовь эта, очевидно, будила во мне творческие силы, а от любимого человека мне оставался только флакон духов… И творческие силы эти клокотали в моей груди бесплодно. Тогда дано было человеку этому как бы из мертвых воскреснуть на четыре только года, с тем, чтобы дотерзать мое сердце, но одновременно оставить мне два сокровища, неизмеримо более ценных, – двух младенцев! Теперь у меня есть кому передать мои мысли и силы, кому передать дело Олега. Славчик должен стать достойным этой идеи. Я не хочу готовить из него мстителя. Структура, которая разделяет общество на победителей и побежденных, мне противна. Слишком долго уже господствуют у нас идеи возмездия, в существе своем чуждые России и русским. Славчик подымет знамя отца с новой на нем надписью. Я воодушевлю его! В высших планах, по-видимому, решено, что это могу сделать только я, а не Ася, коль скоро не Асе, а мне суждено вырастить ребенка. Сколько мук, прежде чем я могла осознать глубину своих задач!…
Передача дневника будет для меня новым распятием: любовь моя перестанет быть тайной для детей, но результаты могут быть слишком огромны, чтобы думать о себе в этом случае. Помог бы только Бог сохранить тетрадки и вырастить мальчика. Полагаю, однако, что теперь, после моего решения, уже не смогу писать этот дневник так же искренно, как писала его до сих пор вот уже двадцать лет, а потому я этот дневник заканчиваю.
О, Родина! Я жду твоего обновления! Когда догорит наконец костер, когда издохнет Чудовище и вскроется давний гнойник на твоем теле и на воскресшую Русь прольется с неба «страшный свет», тогда я пойму, для чего были нужны такие жертвы.
А покамест… весь мир еще окутан для меня траурной вуалью.
[1] Так называли в то время шариковую ручку.
[2] Франция – личность (фр.).
[3] Пепиньерка – девушка, окончившая среднее закрытое учебное заведение и оставленная при нем для педагогической практики.
[4] словечко (фр.)
[5] из бывших (фр.)
[6] накидка, манто (фр.)