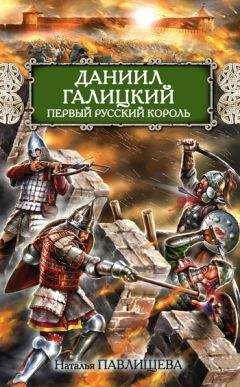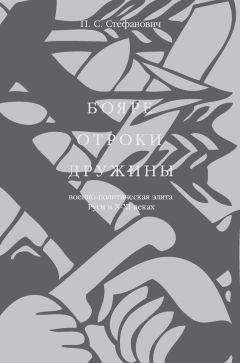Валерий Суси - Царь Ирод. Историческая драма "Плебеи и патриции", часть I.
Дальнейший ход расследования подтвердил правильность догадок Анция, хотя и отнял у него четыре месяца кропотливой работы. Местрий назвал троих лекарей, по его мнению, самых сведущих в изготовлении ядов. Один жил в Риме; один в Тиволи, городе известном храмом Весты, возведенном на краю страшного обрыва и последний, третий — в Путеолах, хлебной гавани с неизменным запахом зерна.
Удача его поджидала в Тиволи. Старик-целитель припомнил заказчика, говорившего с заметным дорийским наречием, а потрудившись, вспомнил, что у него не доставало мизинца на левой руке. Он хорошо заплатил, а я беден, — сказал в свое оправдание старик, оробевший при виде Анция, облаченного в трабею,[134] уверенного и властного.
Еще через несколько недель Анцию стало известно имя человека без пальца. Им действительно оказался выходец с Родоса, грек Антерос, живший в конце Ардейской дороги в доходном доме и по словам соседей часто исчезающий из виду, иногда на продолжительное время.
В Мамертинской тюрьме он будет словоохотлив, — подумал Анций, — он нищ, а кому нечего терять, тот предаст без колебаний.
И все же он шел на Палатин в хмурой задумчивости, не смея радоваться успеху и проклиная выпавшую на его долю неблагодарную обязанность. Как встретит Август человека, доставившего столь ужасные улики против его дочери?
Анций пересекал запруженный народом Форум; его терзали недобрые предчувствия, но остановиться, повернуть обратно он не мог — долг вел его в одном направлении.
Глава 22
Что не излечивают лекарства, то лечит железо, что железо не излечивает, то лечит огонь. Что даже огонь не лечит, то следует признать неизлечимым
Республика стояла на коленях, пытаясь сохранить при этом горделивую позу. Некогда влиятельные цензоры превратились в мелких чиновников, заглохли возмущенные голоса народных трибунов, тихо стало в комициях.[135] В курии сената шестьсот человек, разбившись на многочисленные группы, упражнялись в риторике и с упоением изобличали друг друга, прислушиваясь к отзвукам на улице, добиваясь благосклонности толпы.
Август избегал собраний в сенате и являлся в курию в случаях крайней необходимости; он занимал свое почетное место, лицо его принимало выражение благодушия, словно он поощрял заранее каждого оратора к смелому выступлению и каждому готов был простить резкое слово. Если это и была игра со стороны Августа, то такой игре мог бы позавидовать любой актер. Принцепс и ухом не шевелил, когда находился отчаянный оратор и заводил крамольные речи, что случалось впрочем не часто. Иногда, бравируя, выходил в центр залы Луций Скрибоний Либон и в довольно эмоциональной манере призывал восстановить статус народных трибунов, он знал, что на этот и два последующих за ним дня сделается героем плебеев; иногда следом брал слово Антистий Лабеон, не желавший уступать Либону славу скандалиста и признание толпы, он повторял сказанное соперником на свой лад и шел дальше, оплакивая ничтожную роль народных собраний, ставших воистину пустой говорильней. Лабеон заканчивал речь, уверенный в том, что теперь по крайней мере три дня улица будет говорить о нем. Возвращаясь на свое место, он бросал полный превосходства взгляд на Либона.
Август сидел все с тем же выражением благодушия на лице, он не вникал в смысл произносимых речей, он по обыкновению думал о чем-то своем и почти всегда хоть на несколько минут предавался воспоминаниям о дяде — Юлии Цезаре; каждый раз пред ним вставала одна и та же страшная картина — диктатор в окружении убийц, вооруженных кинжалами; усилием воли он изгонял навязчивое воспоминание; своими светлыми спокойными глазами он оглядывал сенаторов и удовлетворенно думал о собственной проницательности — дважды эти изощренные льстецы вручали ему полномочия диктатора и дважды он отвечал отказом, оставаясь первым среди первых; он запретил обращаться к себе по старинному обычаю — государь: «это оскорбляет слух свободного гражданина»; во время голосований он, как законопослушник, шел в трибу[136] наравне с простыми людьми; по первому зову являлся в суд и смиренно давал свидетельские показания.
Август не нуждался в диктаторской власти, воля принцепса исполнялась беспрекословно на территории в полмира и он позволял себе лукавить, думая про себя, что если бы Боги не выбрали его на роль правителя всех народов, он бы не отказался от роли на сцене театра и, будьте покойны, стал бы любимцем восторженной публики.
Не окажись Юлия замешанной в раскрытом заговоре, у Августа просто ненадолго испортилось настроение; он бы удрученно подумал о неблагодарности Юла и о недальновидности Тиберия, который, судя по всему, не в состоянии понять, что жизнь на Родосе куда привлекательней, чем жизнь в Нарбонской Галлии и что ему вместо нетерпеливых интриг следовало бы всячески благославлять и почитать принцепса. О Цестии Галле можно было вообще не думать.
Мысль о Юлии причиняла нестерпимую боль. Ливия повсюду следовала за ним, изображала сочувствие: какая трагедия, судьи, конечно, не посмеют отступиться от закона, а прелюбодеяние карается смертью. Август зло молчал. Он был в нерешительности. От судей ровным счетом ничего не зависело, также как не зависело ни от сенаторов, ни от консулов, ни от преторов, ни от кого в целом мире. Все зависело только от его воли: пожелай он и не будет никакого суда. Намеренные заявления Ливии о судебном разбирательстве раздражали его, он понимал, что этими заявлениями супруга подталкивает его к сделке: простить Юлию и… простить Тиберия, свести весь заговор к невинной забаве или, в крайнем случае, свалить всю вину на Юла Антония и Цестия Галла и принести их в жертву во имя союза Клавдиев и Октавиев.
Он не мог не согласиться с тем, что в подобном исходе было немало разумного и соблазнительного и вместе с тем оскорбительного и позорного. Кем тогда он предстанет перед римским народом?
Тиберий останется на Родосе, а Юлия навсегда покинет Рим, — жестко произнес он после мучительных раздумий, — Что не излечивают лекарства, то лечит железо, что железо не излечивает, то лечит огонь. Что даже огонь не лечит, то следует признать неизлечимым.
Ливия поняла, что перечить бессмысленно. Если муж утверждался в какой-то мысли, ничто уже не могло заставить его отступить.
Юл Антоний послушно вскрыл себе вены; Цестий Галл, принося по пути жертвы, отправился в Лугудун; Юлия, отравленная депрессией, бродила по острову Пандатерия, дико оглядывалась на примитивное жилище, сколоченное из бревен, где ей предстояло провести остаток жизни, если только не случится чудо и отец не изменит своего решения, когда-нибудь… А пока Август отказал ей в прощальной встрече, не позволил даже повидать детей. Она шла вдоль берега, обходила поросшие мхом валуны и всматривалась с тоской в горизонт. Холодные глаза охранников неотступно следовали за ней.
За всеми этими событиями Анций, ни в чем не уверенный, следил из дому. «До окончания следствия никуда не отлучайся, — сухо сказал Август, — Ты можешь понадобиться». Он не отлучался, сидел в своем особняке безвылазно. Каждое утро давал инструкции Мустию или Музонию, которого он, жалея, нанял и тот жил теперь в одной комнате с братом, помогая справляться по хозяйству или рисуя портреты домашних рабов. Поочередно один из братьев уходил на целый день в город и доставлял к вечеру все последние новости. Постепенно слухи начали увядать, как увядают по осени садовые цветы, римская публика жила в ожидании каких-нибудь новых потрясений, а Анций жил в ожидании известий с Палатина. Но один бесплодный месяц следовал за другим бесплодным месяцем и ничего не происходило. От палатинского холма веяло подозрительным безразличием.
Все чувства Анция обострились, он слышал едва различимые звуки и шорохи, до него доносились из сада не смешанные, как раньше, запахи, а каждый запах в отдельности, ласки Роксаны возбуждали не только тело, но проникали куда-то в самую глубь, рождая непривычную сентиментальность. Он вспоминал мальчика-жреца из Умбрии и думал о том, что у него было очень неприятное лицо, такое же неприятное, как у того птицегадателя из Помпеи. Он с трудом сдерживал себя от проявления истинных чувств, когда смотрел на Харикла, забавляющегося играми в перестильном[137] дворе.
Местрий регулярно навещал брата, замечал перемены, обеспокоенно задумывался, но с расспросами не лез.
Наконец через полгода он получил знак явиться во дворец.
— Наместник Египта, Элий Галл обвиняет тебя в попытке покушения на свою жизнь. В александрийской тюрьме признательные показания дали двое — пивовар из Мемфиса по имени Герпаисий и некий бродяга Пекат. Они клянутся, что ты подговаривал их убить римского наместника, заплатил крупную сумму и грозил смертью в случае, если они вздумают отказаться от поручения.