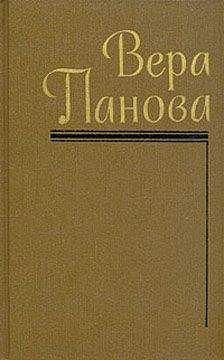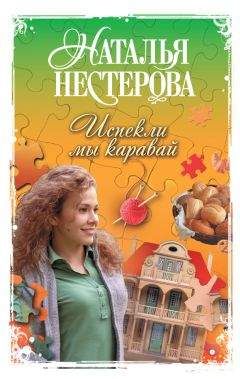Евгений Марков - Учебные годы старого барчука
«За банею» была обычная арена всякого рода таинственных событий нашей гимназической жизни. Длинное низенькое здание бани и швален отделяло заднюю полосу двора от широкой квадратной площади, стелившейся у подножия многоэтажных гимназических корпусов и охваченной от улицы высокою оградою. Этот «большой двор» был слишком открыт для взоров из инспекторской квартиры и дежурной комнаты, где всегда торчали учителя и надзиратели, слишком был на проходе всякого начальства и сторонних людей, чтобы в нём могли разыгрываться какие-нибудь сцены неофициальной пансионской жизни. Жизнь эта выработала себе в течение длинного ряда лет свои особые приёмы, уставы, потребности и давно отыскала свои особые, приспособленные к её нуждам, убежища, ставшие в некотором роде обязательными для грядущих поколений и грядущих событий. На тёмных лесенках и в запутанных переходах чердака совершались те, так сказать, личные дела этой закулисной жизни, которые требовали тайны даже от самого мальчишеского мира; здесь шептались о чём-то притаившиеся пары, затевались одиночные заговоры и подговоры, и вообще в этой нечистой темноте пряталось всё тёмное и нечистое нашей грубой пансионской жизни, боявшееся света и огласки.
«В дровах», в этих бесконечных ярусах дубовых поленьев, что целым лабиринтом охватывали окружность гимназического двора, как в непроходимом лесу укрывали то, что нужно было укрыть, укрывались те, которым нужно было укрыться.
Но кроме этих приютов личной тайны, нашему многоголовому ребячьему миру необходима была подходящая сцена для своего рода публичных отправлений его, безопасная от надзирающих глаз и от наказующих рук. Эта наша пансионская Олимпия и была «за баней». Тут было свободное ристалище для всех запретных подвигов наших. «За банею» происходили все драки, стена на стену и класс на класс, «за банею» держались поединки, «за банею» велись увлекательные игры, которых не допускал официальный гимназический двор.
Порядочная толпа была уже там: почти весь второй и весь третий классы, много семиклассников и шестиклассников. Сторожевые пикеты расставлены везде, где нужно, и на официальный двор отряжено по наряду настолько приличное количество пансионеров из каждого класса, насколько это требуется для отвода надзирательских глаз. Эти жертвы своего долга и своей очереди в печальном бездействии скитаются по пустынным камням опротивевшего всем двора, не совсем осторожно косясь и оглядываясь в нетерпении на манящие их таинственные углы «за баней», полные такого интереса и такого многолюдства.
Нас, бойцов, снаряжали как зверей в римском Колизее, как андалузских быков в цирках Мадрида, в таинственных уголках между дровами, недоступных публике. Ярунов и Белокопытов усаживали меня на шею Второва, который для этого торжественного случая выпросил у Ермолаича какие-то особые сапоги, подбитые какими-то необыкновенными гвоздями, и хвастался ими, словно и в самом деле он чувствовал в груди самолюбие отлично подкованного коня.
Анатолий был тоже около меня; он заботливо пробовал, твёрдо ли я уселся, поправлял мои чересчур выпиравшие коленки и давал последние напутствия, как художник, оканчивающий любимую картину, даёт ей последнее coup de maitre своей мастерской кисти.
— Что ж? Можно теперь? — нетерпеливо спрашивает Второв, которого всё лицо ликует заранее предвкушаемою важною ролью в этом рыцарском турнире.
— Что ж? Кажется, всё? — раздумывая, говорит Анатолий. — Смотри ж, Гриша! Не робей! Не осрами имя Шараповых! Бейся до последней капли крови! — Второв двинулся к выходу. — Да, постой! Вот забыл! — вдруг вспомнил Анатолий, догоняя нас. — Дай сюда правую руку.
Он, хмурясь, вынул из кармана брюк казённый носовой платок и стал им туго перетягивать мою руку выше кисти.
— А вот это хорошо! — подтвердил Ярунов. — Как это мы позабыли, в самом деле.
Ручонка моя налилась кровью и отяжелела, как свинчатка, перехваченная будто тисками на самом пульсе.
— Вот теперь уж хватишь, так долго будет помнить! — сказал Анатолий, потрясывая мою побагровевшую руку на своей огромной ладони. — Ну, с Богом! Молодцом! Отделай его по-шараповски!
Второв заржал как можно громче и грознее и навскачь вынес меня из-за дров. В моём бесконечном смущении мне показалось, что вокруг меня развернулась необъятная площадь, покрытая несчётною толпою. Каждая медная пуговица гимназической куртки смотрела на меня как любопытный и насмешливый глаз. А этих пуговиц столько кругом, и на земле, и на дровах, и на скатах широкой крыши швален! Публика заняла места, как в настоящем цирке, вокруг настоящего ристалища… Все разговоры умолкли, но все глаза, казалось мне, впивались в меня.
Луценко уже стоял на противоположном конце арены, шагах в тридцати, высоко торча своею нагло оскалившеюся белобрысою харею на широких плечах чёрного, как смоль, Мурзакевича. Кто-то протяжно командовал: «Ра-аз, два-а-а… — и потом вдруг, словно испугавшись чего-то, вскрикнул разом: — Три!»
Я качался, как гибкая тростинка, под напором ветра от неистового галопа, которым Второв бросился навстречу противника. Он без всякой очевидной надобности, единственно ради художественной полноты своего превращения в коня, гигикал и ржал, и сердито мотал головою, и топал как копытами своими коваными сапогами, наслаждаясь самим этим тщательным подобием лошадиных обычаев гораздо более, чем созерцавшая его публика. Что касается до меня, то я просто не знал, как усидеть на шее своего ретивого коня при всех этих изумительных прыжках, и бессознательно схватился, будто за настоящую лошадиную гриву, за его русые патлы, что, впрочем, не встретило ни малейшего протеста со стороны моего удалого скакуна и не уменьшило ни на йоту его рьяности.
Мурзакевич нёсся на нас тоже вскачь и тоже с гиком, ржанием и дикими прыжками. Я сидел ни жив, ни мёртв, скорчившись своею маленькою оробевшею фигуркою на могучих раменах Второва, словно мороженый воробей на крыше, не обдумывая никакого плана нападения, и только мучительно ожидая, как и куда поразит меня победоносная рука ненавистного второклассника. И вдруг, прежде чем я успел осознать, что уже встретился лицом к лицу с врагом своим, кулак Луценки, как ловко пущенный кистень, со всего размаху впился в мой левый глаз… Всё потемнело передо мною, и кровавые пятна запрыгали в темноте… Оглушительный крик одобренья раздался кругом. Это второклассники приветствовали удалый натиск своего бойца.
К счастью, опытный Второв, увидев неудачу первой сшибки, пронёс меня мимо, не дав возможности торжествующему Луценке нанести второго удара, и потом опять круто повернул на него. Мурзакевич тоже быстро обернулся и почти в ту же минуту мы сшиблись опять. Но теперь уже на плечах Второва сидел не я, а кто-то другой, полный смелости и злобы. Больно ушибленный глаз и нестерпимый позор, испытанный от малюка-второклассника перед лицом целой гимназии, на глазах всех силачей пансиона, на глазах Анатолия и братьев, — позор, который должен был занестись чёрными буквами за вечные времена в скрижали пансионской истории, — перевернул всё моё внутреннее существо. Малодушные фантазии, придавившие моё обыкновенно скромное и тихое сердце, разлетелись как дым; грубое прикосновение постыдной и досадной действительности разбудило в глубине этого сердца дремавшего там отчаянного зверя, который не мог ни просить пощады, ни давать пощады…
Я уже не прятался трусливо за голову моего коня, а нетерпеливо шпорил его каблуками в бока, и стиснув зубы от злобы, искал сверкавшими от злобы чёрными калмыцкими глазёнками ненавистного противника. Луценко увернулся от первого моего торопливого горячечного удара и нанёс мне сильный удар в плечо. Я едва успел отклонить голову, чтобы этот удар опять не хватил меня прямо в лицо.
Это было последнее торжество Луценки. Хотя мне и не удалось ещё поразить его сколько-нибудь решительно, но и ему, и мне, и всем зрителям, жадно смотревшим на наш поединок, стало ясно, что нападаю я, а Луценко защищается; по тем встревоженным и растерянным взглядам, которыми Луценко следил за быстро сыпавшимися на него ударами, видно было, что внезапно обуявший меня божественный гнев Ахиллеса является и для него совершенною неожиданностью, и что Гектор второклассников стал трусить не на шутку.
А мой азарт разрастался неудержимо с каждым новым ударом. Как новичок в карточной игре, которому вдруг баснословно повезло на первый раз, теряет всякое чувство осторожности и бросается, закусив удила, в безумно рискованную игру, так и я, опьянённый своим внезапно проснувшимся геройством, забыл всё на свете, и с неистовством напирал на своего врага, не давая ему ни мгновения отдыха, не обращая внимания на его удары, с отчаянною настойчивостью добираясь до его оробевшей и уже давно не улыбающейся белобрысой рожи. Второв помогал мне удивительно ловко и удивительно кстати. Я оценил вполне и свято уверил в его долголетнюю славу боевого коня. Он носился с необыкновенною быстротою вокруг моего противника, стараясь захватить его врасплох то сзади, то с боку, и отпрыгивал как резинный мячик при каждом опасном для меня ударе.