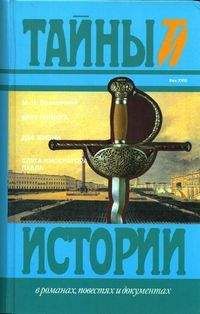Павел Загребельный - Я, Богдан (Исповедь во славе)
Шепоты вечности.
Открою одну тайну. Может, неосознанно, но я знал издавна о своем назначении. И чем труднее становилась жизнь моя и моего народа, тем тверже был я в своем убеждении. Зачем Цицерон защищал свободу своих сограждан? Зачем Тит Ливии рассказывал историю Рима, начиная со времени свободы и до императорского произвола? Зачем Тацит предварил свою "Историю" такими словами: "События предыдущих восьмисот лет описывали многие, и, пока они вели речь о деяниях римского народа, рассказы их были красноречивыми и искренними. Но когда в интересах спокойствия и безопасности всю власть пришлось сосредоточить в руках одного человека, эти великие таланты перевелись. Правду стали всячески искажать - сперва по неведению государственных дел, потом - из желания польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним. До мнения потомства не стало дела ни хулителям, ни льстецам"[13].
И зачем я все это изучал когда-то еще у отцов иезуитов? Чтобы сеять гречиху и пестовать пчел на хуторе над Тясьмином?
Я жил под угрозами, поэтому не мог довольствоваться тихим сидением на земле, - опасности бросали меня в дикие водовороты, из тяжелейших испытаний рождался мой гнев и моего народа тоже. Вся история под угрозами. Нигде человек так не открыт стихиям, как в степях. Земное горе и божий гнев обрушиваются на него одновременно, даже сны у него тяжелее, чем у других людей. Может, потому на этих просторах только звери и птицы, а люди пугливо ютились по берегам великой степи, селились среди лесов и болот, на гиблых землях или на песках, в звериных норах, среди топей, холодного дыхания дебрей и недр. Жизнь моя с самого начала сложилась так, что я очутился на самом краю степей, видел отсюда всю землю, охватывал ее взглядом и разумом своим. Что было на этой земле? Умерли следы и воспоминания, ни знаков, ни надежд. Только песни и плачи.
Закряче ворон, степом летючи,
Заплаче зозуля, лугом скачучи,
Закуркують кречети сизi,
Загадаються орлики хижi,
Да все-усе по своїх братах,
По буйних товаришах козаках!
Чи то їх зграбом занесло,
Чи то їх у пеклi потонуло,
Що не видно чубатих не то по степах,
Не то й по лугах,
Не то й по татарських землях,
Не то й по турецьких горах,
Не то й по чорних морях,
Не то й по ляцьких полях?
Закряче ворон, загруе, зашумує,
Да й полетить у чужу землю...
Я и сам брал отцовскую еще, вербовую тридцатиструнную бандуру, пел песни чужие, слагал свои и уже знал: бандура смеется струнами всеми своими и только приструнками плачет. Почему же людям приходится больше плакать, чем смеяться?
Я бродил по белому свету, сидел даже в королевском кабинете, исполнял уряд писаря войскового, видел гнев, невзгоды; властолюбие, раздвоение, зависть, вражду, раздоры с кровопролитием и другие, подобные этим, злоключения и непотребства и все больше и больше с сердечной скорбью убеждался, что на земле навеки нарушена связь времен и связь судеб людских, жизни и смерти людской. И это тогда, когда не пропадал на земле ни один лучик света, ни одна капелька дождя, ни один листик не упал напрасно, во всем была своя сообразность, своя цель и польза. Так и человек, думал я, должен иметь свою цель, а уж она принесет пользу.
Может, я слишком долго выжидал, был осторожен, стоял в каком-то раздвоении, не решался навсегда избрать только волю и отвагу, а больше ничего? Как сказано: воля и отвага либо мед пьет, либо кандалы трет. Кандалов и так было достаточно, я не хотел увеличивать их тяжесть, потому и колебался, выжидал, накапливал силы разума, искал надежд. Сколько раз рвались на волю, столько крови - а ярмо еще тяжелее, еще крепче.
А тем временем вокруг шла борьба добра и зла, бога и дьявола, борьба между мирской суетой и вечностью, и я невольно впутывался в эту борьбу, увязал в суету больше и больше и уже начинал опасаться, что не выполню предназначения, которое почувствовал в своей душе, потом рвался всеми помыслами и совершал такие поступки, о которых грешно и вспоминать.
Занесенный над моей головой палаш Конецпольского после моих дерзких слов о Кодацкой крепости открыл мне глаза, кинул в отхлань, в самые пекла, где клубились черные дымы преисподней, и тут я должен был либо погибнуть, либо родиться таким, каким суждено мне историей.
Я кинулся тогда на Сечь. Но знал, что меня, будто красного зверя, выследят и там, потому что после сеймовской ординации на Сечи оставлена польская стража из пятисот реестровиков и трехсот жолнеров и они теперь стерегли кош, никого не впуская туда и никого не выпуская без надобности. Мог бы я потолкаться на шумном базаре день или два, но и там не было надежды остаться незамеченным, вот и подсказал мне мой разум вещь дерзкую и неслыханную: без колебаний и промедлений создать свою собственную Сечь, затаенную, невидимую, будто и несуществующую, подводную и подземную, летучую и призрачную, которая будет жить только в случае необходимости, будет слетаться и разлетаться неуловимо, но как же грозно!
Степи пустоширокие, там ни тропинки, ни следа, как на море. Днем по солнцу и по кряжам высоким земным, по курганам-могилам и буеракам, ночью по звездам и ветрам узнавал я свой путь. Не было здесь никогда дороги надежной, были лишь извечные шляхи, и я знал эти шляхи и стал ждать на них таких же, как и сам, бесприютных беглецов, преследуемых, гонимых. Это было место, где у людей не было ничего, кроме самих себя. Достоинство ценилось дороже любви и даже свободы. Мы шли друг к другу, каждый приносил не что имел (потому что не имели никакой субстанции), а что умел. Один обладал чувством дорог, другой знал, где что растет, третий видел воду в земле, четвертый предвещал грозу, бурю, землетрясение, голод, засуху и лихую долю. Я принес им свой разум. Испокон веков считалось, что в битвах имеет значение не разум, а отвага и сообразительность. Умные слишком высокого о себе мнения, потому они боязливы. Однако для казаков разум был высочайшей святостью, может, потому, что брошены были в такие дебри жизни, где не было никакой святости. В старинной думе нашей говорится, как казаков застала на море буря и кошевой, чтобы спастись, предлагал дружине найти между собой грешника, который накликал на всех гнев божий. Тогда виновным перед богом и товариществом объявился писарь войсковой пирятинский попович Алексей, но казаки и слушать такого не хотели:
Ти ж святее письмо в руки береш, чигаєш,
Нас, простых людей, на все добро наставляєш,
Як же найбiльше грiхiв на собi маєш?
Я выбрал для себя остров посреди Днепра, в проливах и заливах, в запутанности и непроходимости Великого Луга, в миле от Сечи, и там начал собирать еще более отчаянных людей, чем те, что были на самой Сечи, задумав вырваться в море, пойти в море и самому хотя бы один раз, чтобы прогремело оно нашей славой и нашей силой, от которых содрогнулось бы все близкое и далекое. За мной было первенство, был разум, и это объединило вокруг меня людей, каждый из которых по-своему был или мог стать великим. Как они помогли мне тогда? Теперь их имена известны всюду. Когда началась великая война моя, все они стали полковниками, родились словно бы из ничего, а я знал их всех задолго до Желтых Вод и Корсуня, любил за их умение, за их непокорность, за неудержимость и даже за строптивость - любишь ведь не того, с кем хочешь в рай, а того, с кем готов попасть и в пекло. Теперь все они мертвы: Кривонос и Нечай, Пушкарь и Чарнота, Ганжа и Бурляй. Жаль говорить! Уже не могут приблизиться к живым, сопровождают их издали, не могут подать голос, но я говорю с ними так же, как с первым писарем моей потаенной Сечи Самийлом из Орка. Эй, Максим, говорю я, брат мой, рано ушел ты от нас, ой как рано... А ты, Данило! Почему не поберегся? А великий самоборец Ганжа, неужели хотел взять на свои плечи весь мир, как тот Атлант? И ты, Бурляй, победивший море, а на суше споткнувшийся. А Пушкарь, чистый и честный, как и его дейнеки полтавские, - может, ты оказался самым благородным, потому что бился за дело Богданово, когда налетели на него коршуны, чтобы расклевать. А ты, Чарнота, морока наша и всего света, гениальный добытчик челнов, весел, и оружия, и огневого припаса, где ты и как и почему не слышно твоего неудержимого голоса?
Они все говорили порой слишком громко. Не любили шепотков, ненавидели недомолвки. Они говорили лучше, чем знали, не имея даже никаких знаний, говорили, как великие ораторы, и понимал их только я, а они понимали меня. О своей прошлой жизни вспоминать не любили, потому что все жили надеждами на жизнь будущую. Бога поминали, когда им было неизмеримо тяжело, и забывали, когда становилось легко, хотя это бывало и весьма нечасто. Когда клялись ложно, вспоминали бога еще чаще и осмотрительно сходили с места, чтобы гром кары небесной не поразил их. Умирали под своей, а не под королевской хоругвью, так как честь для них была превыше всего. Не знали дорог, преград, не боялись просторов, волн, моря и пушек. Привозили полные челны заморского оружия, дорогих тканей, серебра и золота, женских украшений, хотя никогда не имели возле себя ни единой женщины, были молодцами по обету и по нужде, а мир будто ошалел и половину своих усилий тратил на женщин, на их одеяния, прихоти и выдумки, вторую же свою половину - на владетелей и их ненасытную жажду власти. Налетали на турецкие берега так внезапно, что не слышали собственного дыхания, и исчезали еще быстрее, чем доносились до них стоны и плачи погибших. Хотя ходили каждый раз на море, жили на земле, без устали окапывали свой остров, рожденные в земле, были землей, ею становились после смерти. Никто не встречал их с победой, зато никто не упрекал и за поражения. Жизнь и смерть давалась им одинаково легко и просто, а все, что является простым, одновременно является и разумным. Сегодня едим саламату на Днепре, а завтра будем есть жирные пловы в Стамбуле, потому-то не наедайтесь слишком, дети мои! Они же не имели ничего своего, даже петуха, который прокукарекал бы рассвет, и ничего не должны были миру, зато поклялись в верности своему товариществу, а товарищество это было - будто целый народ и его земля со степями, реками, лесами, небом и солнцем. Когда ничего не имеешь, нечего и терять. Показывали друг другу только руки. Садились и выкладывали их на стол, шевелили пальцами, переворачивали ладони вверх, потом снова накрывали что-то невидимое, а глаза их отдыхали на этих руках, единственном их богатстве, их породе, их величании и будущем. Руки загорелые, с обкуренными пальцами, с поломанными ногтями, мозолистые, в рубцах и шрамах, в бороздах от тяжелых самопалов и твердых пик. Еще когда младенцами лежали в зыбках и видели над собой потолок и угловатую матицу на нем, то и тогда не имели лучшей игрушки, чем собственные растопыренные пальцы. Радость и чудо величайшее для человека - его рука. Берет и дает, карает и милует, ласкает и уничтожает, строит и жжет, творит и любит.