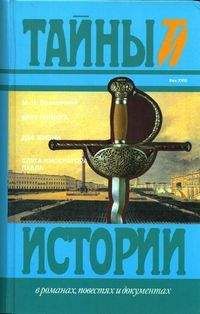Павел Загребельный - Я, Богдан (Исповедь во славе)
Я знал, что канцлер презирает меня так же, как и всех остальных, как презирает он, наверное, и самого короля, потому что на сегодняшний день Владислав беднее пана Ежи, - но чего же иного я должен был ждать? Уважение к ближнему своему бывает только у бедняков. Богатство отнимает у человека способность уважать других, богачи любят лишь самих себя. Разница лишь в том, что выражают это по-другому. Глупые тычут тебе в глаза свое презрение и чванство, умные умеют скрывать свои чувства то за вежливым словом, то за молитвой, то за панибратством, то за показной доброжелательностью.
Пан Ежи сидел напротив меня, смотрел так откровенно и умно, доброжелательно морщил свой породистый нос. Он еще молчал, но я уже знал, о чем будет речь.
- У нас было адское лето, - нарушил молчание Оссолинский. - Канцлер Радзивилл, торопясь к королю в Варшаву из своей Олики, потерял любимого коня из-за несносной жары.
- Я тоже торопился к королю, но мои кони целы, - сказал я.
- Казаки умеют обращаться с конями.
- Не только с конями, пан канцлер.
- О, я знаю: с женщинами тоже! - засмеялся пан Ежи.
- И с врагами, - добавил я.
- Кто же этого не ведает, пан Хмельницкий? Фама об этом достигла уже и антиподов, думаю. Не один властелин завидует королю польскому, что тот имеет таких доблестных воинов.
- Пришлось слышать и это недавно.
- Но пан не торопится на этот зов?
- Сказал же, что торопился к королю своему. А к чужому - зачем должен был бы спешить? Да и будут ли тогда мои кони целы?
- У великих полководцев целыми бывают не только кони, но и люди, заметил раздумчиво канцлер.
- К сожалению, за всю жизнь мне еще не приходилось видеть великих полководцев, а я бы распознал их, потому как на них печать божья. Когда Велизарий переоделся нищим, то воин, встретивший его, все равно узнал своего великого полководца даже в лохмотьях. Мне же приходится видеть только великих кровопийц, жаждущих большого кровопролития. И все как-то так получается, что проливается кровь моего народа. Если не Жулкевский, то Ходкевич, а то Конецпольский или Потоцкий. А из этой крови не рождается ничего, кроме еще большей крови.
- Кровь может родить великих сыновей.
- В это мы верим, и многих уже выдвинул народ, но погибали они безымянными ватажками. Какой-то фатум преследует мой народ, и я завидую вашему народу, пан канцлер.
- А если бы я сказал здесь, что завидую пану Хмельницкому?
- Разве лишь как Иову поверженному?
- Говорил ли пану Хмельницкому граф де Брежи о его высоких способностях? - не слушая меня, быстро спросил Оссолинский.
- Обычная галльская любезность.
- Мне известно, что во Франции высоко ценят пана Хмельницкого как необыкновенно умного и способного полководца. Франция же знает это искусство как никто другой. Она еще никогда не проигрывала ни одной войны.
- Кроме той, которую проиграла Цезарю.
- Тогда еще не была собственно Францией, была лишь Галлией. Но теперь это могущественная держава с мудрейшими королями, с величайшими военачальниками. И вот там уже знают о пане Хмельницком и жаждут видеть его у себя на полях битвы.
- Когда святому говорят, что он способен на чудеса, то в дальнейшем их от него требуют. Неудобство от святости, пан канцлер.
- Это говорят не только святым, но и геросам. Морские походы, которые пан осуществил, вызывают удивление и страх даже у грозных османов.
- Пан канцлер хорошо знает, что я, сижу на хуторе и развожу пчел, а еще - тщательно исполняю свой сотницкий уряд в Чигирине.
- Совсем необязательно становиться огнем, чтобы быть в огне, пан Хмельницкий, необязательно. Ум простирается дальше, чем ядро из самой большой пушки, мне ли об этом говорить пану? Мы что-то знаем, о чем-то догадываемся, может, лучше не углублять наших знаний и догадок и не придавать им лишней огласки. Представляется прекрасный случай. Король Франции был бы рад видеть у себя отважных рыцарей запорожских во главе с их славным полководцем Хмельницким, и наш король не имеет против этого никаких возражений. Сейм не может разрешить вербовку нашего войска для чужой страны, потому что испытываем нужду в нем в своей державе, но ни сейм, ни король не могут возбранить вольным людям воевать там, где они хотят. А пан Хмельницкий и его казаки люди вольные. Это склоняет к ним сердца. Мое сердце тоже.
- Печь хлеб без муки, - сказал я. - Какие же у меня казаки, пан канцлер? Была полусотня из Чигирина на похоронах королевы, да и ту я отпустил.
Оссолинский наполнил мой бокал, наклонился через стол и тихо промолвил:
- Пан Хмельницкий начнет теперь свои фрашки. Дескать, сова сокола не родит, мышь глаз не выколет, хотя по соломе ходит. Я тоже имею свои фрашки. Но сейчас речь идет не об этом. Пусть пан едет в свой Чигирин, и если захочет, то прибудет к началу следующего сейма мартовского. Тогда здесь будет и пан Миколай де Флецеллес граф де Брежи. Я понимаю пана, но пусть пан поймет меня тоже. Мир слишком жесток, чтобы мы позволяли себе слишком затяжную игру.
- Да уж так, - вздохнул я. - Миром не играют - за него борются.
7
"Муж поистине имени гетманского достоинъ, много дерзновенъ в бедствiя входити советенъ в самих бедствiях бяше, в немъ же не тело коими либо труди изнуренно, ни блугодушество против ними наветь побеждено быти можаше, мраза и зноя терпенiе равно, пищи и питiя не елико непотребної иждивенiе, но елико естеству довлеяше вкушаше, сномъ ни в ноши, ни во дни побеждашеся, аще же тогда оть дел и упражненiя воинского времени избываше, тогда мало почиваше, и то не на многоцветнихъ одрехъ, но на постели воинскому мужу приличествуетъ, спящи же паки не печашеся, дабы уединенное коему место изберати, но и между немалимъ воинскимъ кличемъ, ничто же о томъ радящи з тихостiю сна прiимаше, одеянiе ничимъ же оть прочиiхъ разнствующее, оружие точию и кони мало что отъ иннихъ лучшее, мнози многажды его воинскимъ плащемъ покровенна между стражами отъ труда изнемогаша почивающа созерцаху, первiй же на брань, последнiй по уставшей брани исхождаше" (Грабянка, 153)[12].
Кто это? Князь Святослав, император ромейский Василий Македонянин, несчастный Валленштейн, коварно убитый в Егере? Написано якобы о Богдане Хмельницком уже тогда, когда он стал гетманом, был и пребыл, и когда легко втиснуть человека в привычные слова. У великих мучеников и великих негодяев всегда одинаковые жития. Так и обо мне. Никто ничего не знал до Желтых Вод. Дескать, обиженный и униженный бежал на Сечь, вокруг него собралась беднота и сорвиголовы. "Нетрудно было зажечь их, - говорит летописец (Пасторий), потому что как соловью пение, так им мятежи были присущи". Вот так: зажег души запорожских беглецов - и они мигом избрали меня гетманом своим! Слыханное ли это дело? Кто честнее и порядочнее, тот вынужден признать: когда это произошло и при каких обстоятельствах - нет никаких сведений. В самом деле: нет ничего. Утонуло в людской крови, засыпано пеплом, поглощено пожарами, развеяно ветрами - и слово, и мысль, и память, и воспоминания.
Мои универсалы, диариуши, письма и записи сгорели в огне, одежду съела моль, дерево источил шашель, от хоругвий не осталось даже золотого шитья, а сабля, которая была ближе всего к смерти, живет до сих пор. Все ли так на самом деле?
Вечность шепотом рассказывает мне, кто я и что я, и никто, кроме меня, того не слышал и не ведает.
Шепоты вечности.
Открою одну тайну. Может, неосознанно, но я знал издавна о своем назначении. И чем труднее становилась жизнь моя и моего народа, тем тверже был я в своем убеждении. Зачем Цицерон защищал свободу своих сограждан? Зачем Тит Ливии рассказывал историю Рима, начиная со времени свободы и до императорского произвола? Зачем Тацит предварил свою "Историю" такими словами: "События предыдущих восьмисот лет описывали многие, и, пока они вели речь о деяниях римского народа, рассказы их были красноречивыми и искренними. Но когда в интересах спокойствия и безопасности всю власть пришлось сосредоточить в руках одного человека, эти великие таланты перевелись. Правду стали всячески искажать - сперва по неведению государственных дел, потом - из желания польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним. До мнения потомства не стало дела ни хулителям, ни льстецам"[13].
И зачем я все это изучал когда-то еще у отцов иезуитов? Чтобы сеять гречиху и пестовать пчел на хуторе над Тясьмином?
Я жил под угрозами, поэтому не мог довольствоваться тихим сидением на земле, - опасности бросали меня в дикие водовороты, из тяжелейших испытаний рождался мой гнев и моего народа тоже. Вся история под угрозами. Нигде человек так не открыт стихиям, как в степях. Земное горе и божий гнев обрушиваются на него одновременно, даже сны у него тяжелее, чем у других людей. Может, потому на этих просторах только звери и птицы, а люди пугливо ютились по берегам великой степи, селились среди лесов и болот, на гиблых землях или на песках, в звериных норах, среди топей, холодного дыхания дебрей и недр. Жизнь моя с самого начала сложилась так, что я очутился на самом краю степей, видел отсюда всю землю, охватывал ее взглядом и разумом своим. Что было на этой земле? Умерли следы и воспоминания, ни знаков, ни надежд. Только песни и плачи.