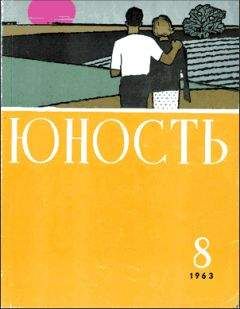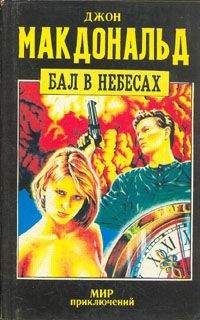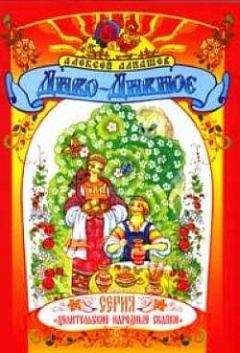Анатолий Виноградов - Повесть о братьях Тургеневых
– Уж будто так неизбежна? Да ежели так неизбежна, все равно Бонапарту будет плохо.
Николай Тургенев пристально посмотрел на брата.
– Нет у меня этой уверенности, – сказал он. – Слишком много в России внешнего и показного. А всякое испытание требует подлинности и здравых, настоящих сил.
«Вот он какой! – подумал Александр Тургенев. – Живешь с ним под одной кровлей и не знаешь, что в его голове творится и обдумывается».
До поздней ночи продолжалась беседа. Александр, удивленный и восхищенный, ушел из комнаты брата. Его восхищала строгость и зрелость ума человека. Порою перед шестнадцатилетним юношей он чувствовал себя неловко. Было впечатление какой-то острой проницательности.
Глава тринадцатая
Русские войска были в Германии, по которой из края в край прошел Бонапарт – император Франции и король Италии. Стоял декабрь месяц. В Москве наступили жестокие холода. В тургеневском доме с утра до вечера пели двери, поскрипывали заслонки и звенели вьюшки. Топили два раза в день, и два истопника следили за тем, чтобы жар не прогорел и чтобы господа не угорели. Иван Петрович не мог согреться. Он чувствовал себя плохо в такие холода, сидел полусонный, с поникшей головой, не мог ни читать, ни говорить. Он тосковал и томился. В углу на столике лежали старые рукописи – стихи покойного сына Андрея:
Угрюмой осенью мертвящие луга
Уныние и мрак повсюду развевают
И следующее:
На камне гробовом печальный, тихий гений
Сидит в молчании с поникшей головой.
Александр Тургенев вернулся поздно из канцелярии Новосильцева. Предстоял переезд в Петербург. Новая служба была незанимательна и не говорила ничего ни уму, ни сердцу. Но было другое обстоятельство, заставившее его пройти мимо столовой к себе наверх и запереться. Он обдумывал, как бы утаить от впечатлительного и тоскующего отца весть, пришедшую из Германии. Русские войска наголову разбиты под Аустерлицем.
Вот знакомые санки видны по улице. Бобровый воротник, маленький, красивый, бобровая шапка, щегольская бобровая муфточка на руках – это приехал брат Николай. Надо поговорить с ним. Через минуту, прихрамывая, Николай вошел к нему сам.
– Ну, вы, вероятно, беспокоитесь о батюшке. Ему уже утром все было известно. Пойдемте вниз и посидимте все вместе.
Александр развел руками.
«Да это какой-то гений проницательности! – подумал он. – Или действительно права геттингенская гадалка Клотильда, утверждая, что мысли передаются на расстоянии».
– Что же будет, Николай, что же будет? – произносил Александр шепотом. – Кажется, будто кончается мир и совершаются какие-то последние сроки истории. Все заколебалось. Ни в чем нет уверенности, ничто не устойчиво.
Вечер был прощальный. Московское отделение новосильцевской канцелярии уезжало в Петербург, и Александру Тургеневу предстояло на другой день покинуть Москву и родительский дом. Делал он это не без радости, хотя эта радость была отравлена сознанием, что нехорошо оставлять старика отца на попечении двух младших братьев. Но уж очень стала тягостна обстановка. Иван Петрович все больше и больше уходил от жизни. Катерина Семеновна, как заноза, шла против своего времени и мстила ему. Каждый новый день нес с собою все большее ей раздражение. Услышав от сына Александра слова, правда сказанные по-немецки Николаю, о том, что русское самодержавие есть хищение власти у народа, она побагровела от злости и не вышла прощаться с сыном. Александр Иванович из Твери и из Торжка, где перепрягали лошадей встречного курьера, послал ей в Москву нежные письма.
Холодным зимним утром появился он на Лиговке. Каждый раз, как приезжал он в Петербург, все одно и то же восхищенное чувство охватывало его. Он с обожанием относился к северной столице. Тщательно переодевшись, слегка позавтракав, поехал он к Виктору Павловичу Кочубею, как уговорено было с Новосильцевым. Важные императорские сановники приняли его лучше, чем то мог ожидать его возраст. Новосильцев и Кочубей говорили с ним, как с равным. С табакеркой, осыпанной брильянтами, в туфлях, белых чулках, со звездою на фраке, Кочубей, черноглазый, чернобровый, с седой головой, смотрел на Тургенева весело, с каким-то беспечным задором, простительным для сановника, которому страшно везет в жизни. Новосильцев пускал клубы дыма из трубки. Брильянтовые перстни сверкали у него на пальцах. Он говорил глухим, почти сиплым басом. Опухшие веки были красны, щеки помяты и в жирных складках. Не стесняясь, продолжали они разговор при Тургеневе. Разговор был отвлеченный, по поводу одного провинившегося придворного. Кочубей вспоминал правила нравственного поведения и религии. Новосильцев брал согрешившего под свою защиту. Он говорил с напускным смирением:
– Ваше сиятельство отрицает закон божественной благодати. Имейте в виду, что человеческая порядочность есть гордыня. А ничто так не оскорбляет господа, как гордыня его тварей. Грех делает человека скромным, кающимся. А ведь это только и нужно. Умиленное сердце смягчает гнев божий, а гордыня леденит.
– Но ведь вы же говорите шутя, Николай Николаевич?
– Нет, я говорю совершенно серьезно. Вы должны понять этого молодого человека и оправдать его, хотя бы по ходатайству митрополита Платона. Не могу вашему сиятельству не выразить свое удивление – вы были защитником подстрекателей и стачечников, поднявших революцию на суконной фабрике Осокина в Казани и на суконной фабрике Кривошеиной в Воронеже. Там, где действительно нужна суровость, ваше сиятельство взывает к человеческим чувствам и молодому царю внушает несбыточную уверенность в доброте человеческой природы. Я сам уважаю дела комитета: готовить конституцию, – быть может, предотвращать революцию, но нельзя же прощать открытых якобинцев.
– Какие это якобинцы! – захохотал Кочубей. – Голодные суконщики, неграмотные и глупые, которых фабриканты хотели послать на нефабричную работу. Они даже правы, по-моему.
Спор сановников продолжался еще два часа. Затем Новосильцев стал прощаться. Выходя вместе с Тургеневым, он говорил:
– Ну, покажите вашу немецкую мудрость. Завтра экзамен по политической экономии в Педагогическом институте. Потрудитесь экзаменовать, а потом поговорим с вами о занятиях ваших в Комиссии по составлению законов.
Тургенев сел, в экипаж Новосильцева, с правой стороны. При выезде за угол раздался крик. Городовой взметнул руку к козырьку. На гнедой лошади в широких санках ехал человек, закутанный в серую шинель. Летняя фуражка с красным околышком была у него на голове. Тургенев успел рассмотреть сизый нос картошкой, оловянные глаза, щеки с прожилками, уродливые губы и оттопыренный подбородок.
– Аракчеев, – сказал Новосильцев, – инспектор артиллерии.
* * *В 1807 году братья Тургеневы осиротели. С Иваном Петровичем стало нехорошо. Сначала было дурно голове, и он метался. Потом потерял сознание, затих, стал дышать спокойно и скорее заснул, чем умер. Катерина Семеновна вдруг сильно переменилась. Она поплакала немного, потом, взяв себя в руки, решила проявить твердость характера. Казалось, смерть мужа сделала ее более осторожной в отношении к идеям своего времени. Она уже не преследовала детей за вольномыслие и настойчиво и твердо повторяла о том, что раз Александр после германской науки получает хорошее жалованье и любим начальством, то и Николаю обязательно и необходимо пройти тот же курс.
– Особенно учись английскому языку, – говорила она Николаю.
Николай, который уже прекрасно говорил по-английски, учился свободно писать и каждый день писал хозяйственные реестры для матушки на английском языке. Воронцовы, Шаховские, Щербатовы и множество других знакомых и друзей Катерины Семеновны были яростными англоманами. Бонапарт скомпрометировал все французское. Оставалось только одно – идти по пути союза с консервативной Англией, ущемлявшей Бонапарта на море, покупавшей льняную парусину и полотно у русских помещиков, соль у Строгановых, кожу у Шаховских, и мало ли еще каких торгов не делала Англия с русскими помещиками. К детям приглашали англичанок. Французская гувернантка выходила из моды. Но было и другое течение. Граф Николай Румянцев был за Бонапарта и за французский союз.
Дворянство волновалось, а молодой царь в заботах о своей популярности не слишком обращал внимание на эти волнения. Аракчеев говорил однажды своему закадычному другу Енгалычеву:
– Понимаешь ли, я в канцелярии на Кирочной печать ставлю на казенной бумаге, но ежели по той же бумаге не поставят печати у масонов в Москве, в Милютинском переулке, то бумага моя без движения валяться будет. Два у нас правительства: одно явное, но без власти, а другое – тайное и могущее.
Если бы Аракчеев знал, что Николай Тургенев действительно получил масонскую санкцию своего отъезда в Геттинген вместе с матушкиным благословением и казенной командировкой, то он почувствовал бы себя подлинным прозорливцем. Но он не знал этого. А Николай Тургенев не принадлежал к числу болтливых, даже старшему брату он говорил не все. Бывая на всех обязательных масонских собраниях, он теперь уже твердо знал, до какой степени зорко следят за всеми масонами глаза руководителей. Он видел, что вместе с течениями легкомысленными и пустыми есть глубокая подземная река, течением которой управляют ему не известные, но большие, вне России находящиеся силы.