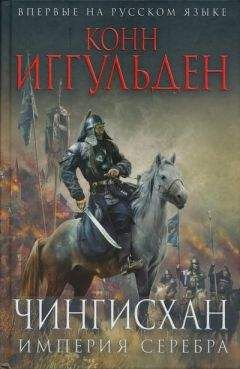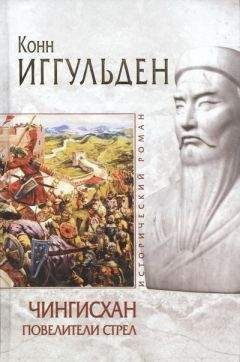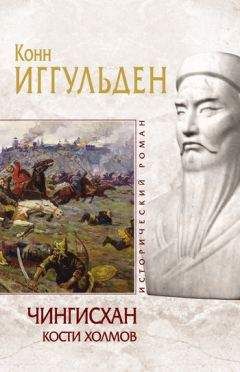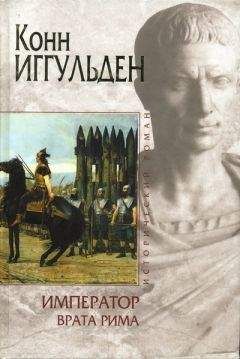Ольга Приходченко - Одесситки
Ленкина мама разрешила выставить патефон на подоконник, и под звуки модных мелодий время летело незаметно и приятно. Вовчик смотрел на девушек, на их ручки с тоненькими пальчиками и розовыми ноготками, как на волшебных фей.
— Ты чего дрыхнешь? Где крючок? — Ленка растолкала заснувшего мальчика.
— Не сплю я, задумался.
— Ага, втюрился ты, а не задумался. Иди лучше рожу свою умой, а то стыдно за тебя перед людями — тоже мне кавалер!
Вовка вернулся во двор, когда уже шла примерка. Марочка стояла в чёрной муаровой юбочке, на ней была белая, вывязанная из квадратиков кофточка без пуговиц, она просвечивалась, и мальчик увидел её беленький лифчик. Кожа девушки загорела, солнце, прячась за сараи, посылало свои последние золотистые лучи. Марочка купалась в них, они проходили у неё под руками, ногами, гладили прекрасные косы с кудряшками надо лбом. Все любовались этими небесными созданиями, невесть как вы жившими в блокадном Питере, так они называли Ленинград.
И вдруг Марочка увидела Вовчика. Он стоял в арке ворот с открытым ртом, держа в руках корзину с шелковицей.
— Что скажет нам кавалер? — Марочка прокрутилась, как балерина на одной ножке. Вовчик залился краской, аж пот выступил на лбу.
— Я шелковицы принёс — вот.
Все засуетились, стали мыть красную и чёрную шелковицу. Ниночкина бабушка вынесла полную кастрюлю оладышек, ещё соседка угощала разведенным водой мёдом. Каждый нес во двор что мог — стулья, табуреты, пили уже не только чай. Патефон не умолкал. Надя танцевала с Доркой, Вовчик с Санькой по-взрослому их разбивали. Было весело и шумно, прохожие заглядывали из соседних домов, думали, свадьба, спрашивали, кто невеста? Даже бабу Катю спустили вниз, усадили поудобнее у акации.
Обняв Надежду, Марочка сунула ей в руку кофточку: это от нас, носите на здоровье. Под шумок они сбежали к ожидавшим их морячкам. Вроде бы и места много во дворе, а посидеть негде. Выпив ещё немного, трое мужчин, оставшихся на весь дом в живых после войны, решили соорудить стол. Через неделю он был готов, длинный, с двумя скамейками по бокам. Теперь целый день кто-нибудь сидел за ним: утром старушки с маленькими внуками, днём молодёжь, вернувшаяся с моря. Вечер делился пополам: сначала мужики забивали «козла», под бормотуху курили, нещадно ругались, вспоминая войну, голод. Пацанов незлобно, но старались отгонять — еще свое хлебнут. Ближе к полуночи их сменяла молодёжь, возвращающаяся со свиданий. Ну а затем раздолье было парочкам. Старая акация создавала хорошее настроение, молча слушала людские радости и печали. Под ней отмечали праздники и дни рождения, двор стал хорошеть на глазах — починили, наконец, ворота, побелили деревья, покрасили уборную, даже мусор перестали бросать где попало — неудобно всё-таки, соседи видят, застыдят, лучше от греха подальше отнести на полянку через дорогу.
В общем, жизнь кипела. Вечерами, правда, редко, в основном в субботу, собирались на Горячую. Парились от души и решали, ехать ли в выходной всем двором в Лузановку, как до войны. Но в воскресенье магазин был открыт, и ни о какой поездке Дорка с Надей и думать не могли. Вовчик весь вечер умолял их отпустить его с дядей Ваней и тётей Валей. Дорка ни в какую, вот будет у нас выходной в понедельник — тогда и поедем. Забыл, как там мальчик утонул? Нет, разговор окончен.
— С вами неинтересно, я с вами не хочу! — в сердцах выпалил мальчик.
— Значит, и в понедельник не поедешь, мы поедем без тебя! А ты будешь дома сидеть целую неделю!
Надька мигнула подруге: это ты чересчур, он же маленький. Вовчик, горько плача, бросился за ширмочку к бабе Кате.
— Маму надо слушаться, я тоже её слушаюсь, ты как в прошлый раз после этой Лузановки кашлял?
Вскоре из-за занавески слышался смех, радостные возгласы. Баба Катя играла с внуком в города, имена, клички собак и кошек. Женщины, перебирая гречку, улыбались.
В понедельник, как назло, ветер нагнал тучи, стало прохладно. Моросил нудный дождь. К вечеру всё стихло, показалось солнышко и своим появлением сразу сгладило неважное настроение. Всё равно день использовали по-хозяйски: стирали, убирали, даже на базар сгоняли очень удачно, покупателей нет, зато продавцов хоть отбавляй.
— Хорошо бы окунуться, может, все-таки махнём на море? — Надька скосила глаза на Вовку, тот молча играл с лошадкой. — Вроде сегодня наш Вовчик хорошо себя вёл, помогал нам, да и помыть его не мешало бы. Как ты считаешь, Дорка, брать его или нет?
— Брать, брать! — не выдержат мальчуган. — Я буду ножки тебе мыть, тёть Надя!
— Лучше бы корзины взяли, да угля натаскали, сами говорите, что на железнодорожных путях полно, и никого сейчас не гоняют. Лето скоро кончится, чем топить будем? — баба Катя тяжело вздохнула.
— Успеем, баба Катя, натаскать, не беспокойтесь, — успокоила Надька. — Вовчик, лучше достань с печки мешки, может, рыбки наловим или прикупим, и сумки на всякий случай прихватим.
За ними никто не увязался. К Горячей подъехали быстро, рабочий день еще не кончился, в трамвае ехали торговки рыбой, от них так воняло, что подруги высунули головы в окно подышать свежим воздухом.
— Граждане, не высовывайте свои мозги. Эй ты, умная в очках, посмотрим, что ты всунешь обратно!
Дорка с Надькой быстро отпрянули от окна, невольно слушая двух собеседниц, одна из них стояла на передней площадке, другая на задней. Не обращая никакого внимания на переполненный вагон, они гортанными голосами Привозных торговок, перебивая друг друга, радостно орали на весь трамвай: «Пошла килька, и анчоус с сарделькой, прямо косяки, идут, как немцы сдачи Ковалевского. Везде и в Лютсдорфе, и на Фонтане, что делается. Страсть сколько рыбы...»
«Неужели правда? — подумала Дорка, — Молодец Надька, что мешки заставила взять».
— Смотрите, смотрите!
Все повернулись к окнам. Солнце с запада освещало открывшееся людям море, оно серебрилось небывалым цветом, тяжелые волны несли к берегу рыбу, она выпрыгивала из воды. Сверкала на мгновение и опять сливалась всплошную серебристую массу. Трамвай остановился, все выскочили и побежали к берегу. Он весь был усыпан мелкой тюлькой. Люди сначала набирали ее, потом выбрасывали, заходили подальше и набирали покрупнее, живую, скользкую... Падали, теряли; как полоумные, сбрасывали с себя одежду; мастерили тару под улов. Не стесняясь, женщины снимали трико, затягивали в них резинки и, набив рыбкой, забрасывали их на плечи. Мужчины, обезумев от счастья, связывали кальсоны и рубахи. Дорка боялась за Вовчика, чтоб его не затоптала эта озверевшая толпа. Надька была уже по грудь в воде, махнула прихваченным из дома мешком, и аппетитная сарделька сама утрамбовывалась в нем, вода сливалась в небольшие дырочки. Дорка ждала подругу на берегу, загребала кильку ногами и придерживала сумки, чтобы не украли. Вовчик аж дрожал от возбуждения. И икал. Через час всё, что можно было затарить, они забили рыбой.
— Баба Катя нас простит, как увидит эту красоту, она умница. А ты бы, Дорка, штаны сняла, как эта баба?
— Я в трусах хожу!
— Твое счастье, а то бы я с тебя их сняла. Тары бы могло не хватить.
— Ты лучше это сначала допри.
На остановке стояла раздетая здоровая тётка с девочкой лет двенадцати в одних трусиках. Ей было стыдно, и она плакала. Надька с Доркой весело подмигнули ребёнку: «Сарафанчик твой отстирается, зато смотри, сколько в него и мамино платье набили». В переполненный вагон еле влезли, под ногами на полу валялось много мятой рыбы, запах ее никто не ощущал. Доехали быстро, теперь поскорее перейти железнодорожные пути Пересыпские, а на спуске пересесть в другой трамвай.
— Эй, извозчик, не гони! — подшучивала Надька, когда Дорка оказывалась впереди. — Лучше помоги.
Трамвая они так и не дождались. Шли пешком, часто останавливались передохнуть. Рук от тяжести не чувствовали. У ворот, как всегда, сидели старухи.
— А ну, бабки, тащите миски, угощайтесь рыбкой, — скомандовала Надька. Старух, как ветром, сдуло. Мужчины побросали домино, весь дом гудел, не веря своим глазам, когда Дорка вывалила на стол целый мешок. Вовчик захлёбывался от счастья, он был в центре внимания и уже, наверное, в десятый раз рассказывал о чуде, свидетелем которого был.
Вдруг всё взрослое население похватано вёдра, мешки, корзины и двинулось кто куда, к морю. Одни на Пересыпь, другие на Ланжерон. Поздно. Туда уже нёсся весь город. В Доркиной квартире все дружно, не произнеся ни слова, чистили, жарили и варили сардельку. Ели и опять чистили, и опять ели.
— Завтра сутра бежим за солью, — прервала тишину Надька. — Рыбу засолим и повялим.
— Девки, завтра соли не будет, — обреченно произнесла баба Катя, — она сегодня нужна. Давайте корыто, у кого сколько есть. Не хватит — с уксусом стушим. Да и так съедим.
Ночью бабе Кате стало плохо. «Ой, девочки, обожралась я, дура старая». Ее рвало, боли усилились, она еле дышала, бредила, приходя в себя, просила Бога забрать её поскорей, не мучить её девочек, внучка. Просила прошения у всех, потом затихала. Дорка с Надей не прилегли ни на минуту. Утром Дорка побежала в поликлинику, вызвана врача на дом. А Надя понеслась за солью. Как и предсказала баба Катя, соль исчезла из Одессы мгновенно. На базаре за неё ломили несусветную цену.