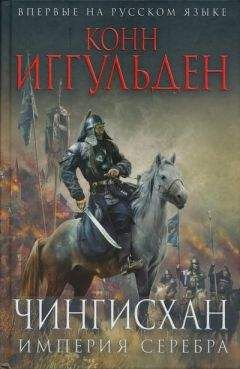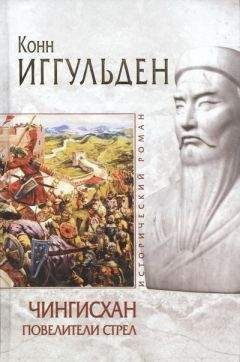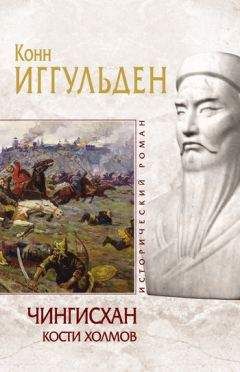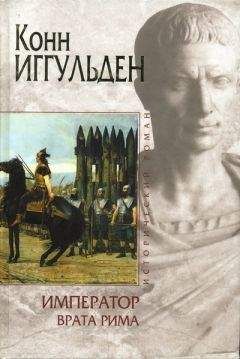Ольга Приходченко - Одесситки
Ночью бабе Кате стало плохо. «Ой, девочки, обожралась я, дура старая». Ее рвало, боли усилились, она еле дышала, бредила, приходя в себя, просила Бога забрать её поскорей, не мучить её девочек, внучка. Просила прошения у всех, потом затихала. Дорка с Надей не прилегли ни на минуту. Утром Дорка побежала в поликлинику, вызвана врача на дом. А Надя понеслась за солью. Как и предсказала баба Катя, соль исчезла из Одессы мгновенно. На базаре за неё ломили несусветную цену.
Одесситы наелись тюльки, казалось, на всю жизнь. Смотреть на неё никто не мог, но проходило несколько часов и обещания не есть до конца жизни, забывалось. Опять жарили, парили, варили. В городе только и говорили о рыбе, откуда столько? Версий выдвигалось множество.
На Соборной площади, где от собора ничего не осталось после 30-го года, кроме названия, после войны собирались бывшие солдаты, в большинстве инвалиды, играли в шахматы, домино, спорили о футболе, шепотом рассказывали житейские анекдоты, только своим проверенным корешам доверяли что-нибудь запретное. Если появлялся чужак, стоящий на шухере «поднимал громкий концерт». Все разом умолкали, выдерживали паузу. Лишь споры о рыбе продолжались. Ссылались на какие-то точные «сведения оттуда» с многозначащими закатываниями глаз к небу. И разносились они по городу быстрее морского ветра. Не было, наверное, ни одного двора, завода, парохода, самого захудалого куреня, где бы не обсуждали эти «сведения оттуда».
— Цэ у турок якась бомба американська взорвалась — та мабуть, рыба пишла до нас! — весть с Фонтана быстро доходила с Дофиновки и Белгород-Днестровского.
— Втикла до нас, бо бильш Совецьку власть вважае! — подмигивал другу старый солдат.
— Це, мабуть, шторм дюже ссыльный с боры загнав тюльку до нас!
— Та ни, це головный косяк на мину нимэцьку наскочыв и з курса збывся — таке бувае. И в газети пышуть, шо таке бувае... Та пидытрысь, сами не знають шо пишуть, в газети, в газети...
— Недилю загораты можно — лодку красыть буду.
— Та ни, кажуть у Овидиополе рыбколгосп прыймае рыбу.
— Хто це каже, плюнь ему в очи! Прыймають! Соли немае, нихто не прыймае!
— Ось скильки дохне, глянь, Никола, такого не бачыв. Кинець свиту!
— Та хочь кого спытай, до вийны скумбрия до Одессы прыйшла, ото було, так було, а зараз тильки тюлька! Тьфу! Кинець свиту!
В глазах рыбаков стояла тоска, сколько сил, здоровья они тратят, чтобы поймать эту рыбку, гибнут, калечатся в море и вот на тебе — бери, не хочу, и никому она не нужна. Даже чайки не летают в море, а обосновались на берегу и важно ходят но гниющей рыбе, как завоеватели, брезгливо отряхивая лапки, не веря своему счастью.
Во дворе на Софиевской за столом сидела очередь в туалет.
— Ой, бабы, уже по пятому заходу! Будь неладна эта рыба!
— Говорят, все больницы переполнены. Обосралась вся Одесса.
— Бабы, вы еще шутите, пропустите Христа ради, а то дед на ведре сидит, а я сюда добежала. И смех и грех.
— Баба Катя умирает, а вы здесь ржете. Смотри, Иван Ниночку в больницу понёс, видно, совсем плохо.
— Господи, что же это такое?
— Да стухла, небось, рыба, а они её ребёнку дали, вот и весь сказ.
— Вонь какая, весь двор провонялся! По радио говорили, что эпидемия может начаться — холера, в море инфекция. Рыбу есть нельзя, отравлена она — диверсия это.
— Да, диверсия это американская!
— С завтрашнего дня городской воскресник.
На следующий день подъезжали машины, в них грузили то, что осталось от перламутровых блестящих красавиц, которых ещё три дня тому назад люди мечтали купить и поесть, а теперь с ненавистью и отвращением выбрасывают, засыпают хлоркой, не дай Бог эпидемия.
Врач к бабе Кате пришла только под вечер. Вовку прогнали на улицу, но он потихонечку вернулся и подслушивал под дверью. Наконец врачиха вышла, на ходу объясняя Дорке: «Если бы она ходила, то, сами понимаете, организм бы боролся, кишечник заработал. А так, без движения, и возраст еще — я вас ничем порадовать не могу».
Вовчик чуть не плакал: не вылечила врачиха его бабу Катю, а он так ждал. Мать опять выставила его за дверь: иди гулять. Во дворе никого не было, лишь возле ворот сидели тетки с детьми, ноги сами понесли его вниз по улице. Он всё время думал: «Если бы у бабы Кати были костыли, она бы ходила и выздоровела. А у нее палки, как можно ходить на них?» Он сам пробовал — очень неудобно. Нужно достать настоящие. На Пастера, в больнице, он видел их много; больные в пижамах и халатах читают газеты, играют в шашки. У каждого свои личные костыли, приставлены к скамейкам, могут и по очереди пользоваться, всё равно ведь сидят. Вовчик старался оправдать свой поступок. Ворота больницы были раскрыты. Удобный случай представился сразу. Он приметил парня, у которою одна нога была в гипсе. Тот медленно, мелкими шажками, шел, опираясь на плечо женщины, очевидно, мамы; было слышно, как она внушала ему не бояться. Костыли одиноко стояли, прислонившись к дереву. Вовчик смотрел на спины удаляющихся — и быстро подхватил их. Какие они тяжелые и неудобные, через ворота нельзя — там сторож. Он понёсся к забору. Оглянулся ещё пару раз и наткнулся на человека в белом халате.
— Ты куда, пострел?
Вовчик красный, в ужасе смотрел на врача:
— Да я бате, он там, забыл, туда кое-как, я помогал, а назад никак.
— Ну, беги, смотри не упади сам! — усмехнувшись, врач поспешил по своим делам. Вовчик забежал за последнее здание, вот и забор удобный — чугунная решетка, быстро просунул костыли. Перелазить через забор не стал, помчался к воротам, невозмутимо прошел мимо сторожа.
— Ну что, навестил? — спросил тот.
— Да, всё в порядке, — как взрослый, ответил мальчик, а сам думал: «Только бы не спёрли».
Стемнело, теперь скорее домой, баба Катя как увидит такие костыли, сразу встанет и пойдёт, ещё как пойдёт, он ей поможет, и они, как раньше, пойдут и на «охоту». Пересменка на дворовой лавке закончилась: женщины с детьми уже ушли, им на смену заступили бабы. Они курили папиросы, задирали прохожих не сильно, так, от нечего делать, подшучивали не злобно, в основном сплетничали. «Перемоют всем косточки и разойдутся», — махнув рукой, говорила Дорка.
Вовчик прошмыгнул во двор так быстро, что не успел поймать в свой адрес ни слова. Холостячки что-то серьёзное обсуждали и были уж очень увлечены. Дверь в комнату была приоткрыта, на диване сидели мать с тёткой.
— Где ты шляешься целый день? Мало нам горя, так еще ты.
— Что это ты притащил? Господи, где ты их взял?
Вовчик так устал, что не мог ответить сразу.
— В больнице доктор дал.
— В какой больнице? — не унималась Дорка.
— В Херсонской.
— Кто тебе дал?
— Я говорю — доктор.
— Как дал? Зачем?
— Я попросил для бати, ну, для бабы Кати, он и дал, говорит, бери, раз нужно.
— Уже никому не нужно, Вовчик!
Он рванул ширмочку, баба Катя лежала в той же позе.
— Баба Катя, я принес тебе костыли, настоящие, ты поспи, а завтра мы с тобой будем ходить, — мальчику показалось, что бабушка кивнула ему головой.
— Вова, пойдёшь спать к соседям, — Дорка первый раз, сама не зная почему, назвала сына по-взрослому.
— Зачем? — только сейчас он увидел заплаканные глаза тётки и матери.
— Нет больше твоей бабы Кати, нашей бабушки, ушла она от нас.
— Умерла она, старенькие умирают, сначала болеют, а потом умирают.
Вовка попятился назад и, не замечая столпившихся в коридоре соседей, заплакав, убежал.
Нет, как же так, он ведь принёс настоящие костыли, разве она не могла подождать, начата бы ходить и выздоровела. Нужно было раньше стырить эти проклятые костыли, он ведь давно хотел, а всё боялся.
— Вовчик, пойдем к нам, — его обняла тётя Валя, Ленка с Ниночкой потащили за руки. Мальчик не сопротивлялся, опустил голову, чтобы никто не видел его слёз, и пошёл за тётей Валей. Утром, пока все ещё спали, он сбежал домой. В комнате было полутемно, на диване сидела мать в чёрном платке, она сразу бросилась к сыну.
— Нельзя, сюда нельзя, иди во двор, я тебя потом позову.
Из-за ширмочки вышла соседка и поставила помойное ведро.
Мать потащила его во двор к уборной, не замечая сына.
— Всё, мы её обмыли. Где одежда? Во что будем одевать покойницу, Дора? — женщины по-деловому вытирали руки одним полотенцем.
— Поссоримся из-за кавалера.
— Пусть сначала он появится.
Старухи захихикали, потом покрестились: «Господи, прости душу грешную, покойница, видать, тоже немало нагрешила на своём веку, уж такая фартовая была, куда там. Вовчик, а ты чего тут?» Женщины замялись, неудобно стало перед ребёнком, покойница в доме, а они языки распустили, засуетились, схватили лежащую на столе одежду и задёрнули за собой ширму.
Мать вернулась с пустым ведром, он уткнулся ей в живот и горько заплакал. Мальчик уже много похорон видел, все умирают и умирают, всё она, война проклятая. Он слышал, как соседи говорили, если бы не она, и его баба Катя жила бы и жила.