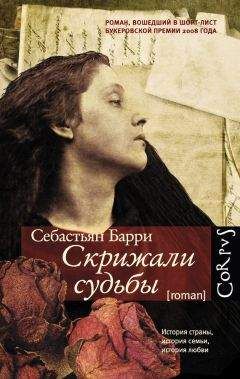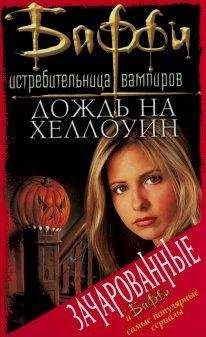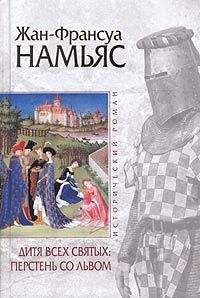Себастьян Барри - Скрижали судьбы
Я чувствую себя настолько опустошенным, что ищу поддержки в любом проявлении силы духа, душевного здоровья. Я смотрел, как вешали Саддама Хусейна, «президента Ирака», как он продолжал себя называть, и искал в его лице следы боли и страдания. Но он был разве что немного растерян и казался сильным, даже умиротворенным. С каким же презрением он смотрел на своих захватчиков, даже когда те смеялись над ним. Наверное, не верил, что у них хватит духу его прикончить. Поставить точку в его истории. Или, быть может, он думал, что у него самого хватит духу поставить эту точку — и размашисто расписаться. Много месяцев назад, когда его только вытащили из укрытия, он был весь какой-то растерянный, грязный. Во время судебных заседаний он всегда появлялся в безупречно чистом костюме. Кто же его стирал, сушил, гладил? Какая горничная? И как его история видится другу, стороннику, земляку? Когда он шел на смерть, я завидовал его явному спокойствию. К Саддаму не проявили милосердия, и сам он никогда не проявлял милосердия к врагам. Он был спокоен.
Это правда, что последние десять лет, целое десятилетие, Бет прожила отдельно от меня, в старой комнате для прислуги, на верхнем этаже. Я сижу в нашей старой спальне — старой во многих смыслах этого слова: тут мы двадцать лет спали вместе, тут давно не делали ремонт, тут мы спали раньше и т. д., — как сидел уже много раз (сколько там ночей в десяти годах? 3650 ночей), а ее больше надо мной нет, не слышно ее шагов, не слышно скрипа кровати. Везде тишина и спокойствие, за исключением этого легкого постукивания, как будто бы она не умерла, а закрылась в шкафу и теперь хочет выбраться. В маленькой комнатке наверху стоит ее аккуратно заправленная кровать — с того самого последнего утра, — и я не смог до нее даже дотронуться. Ее книжки о розах так и лежат на подоконнике (когда мы спали в одной постели, с ее стороны всегда лежали книги о разведении роз, с моей — книги по истории Ирландии), их подпирают две резные гавайские подставки для книг в виде двух беззастенчивых девиц. У кровати, на лакированном китайском столике, который достался ей от двоюродной бабки, стоит телефон. Ее двоюродная бабка умерла от Альцгеймера, столик же она давно, еще когда была в самом расцвете сил, выиграла в карты, и Бет была очень взволнована и растрогана, когда получила его. Ее белье лежит в ящиках комода, зимние и летние платья висят в шкафу, там же стоят ее туфли, в том числе и те шпильки для торжественных случаев, она их надевала много лет назад, когда еще было куда в них выйти; я считал, что они ей не идут, но у меня не хватало бестактности сказать ей об этом, такого греха за мной не водится. Но у меня перед глазами стоит не та женщина, которая, задыхаясь, упала в коридоре, когда у нее отказало одно легкое, и от последнего крика которой я взлетел вверх по лестнице, нет, меня преследует та юная девушка, в которую я влюбился. Та идеальная, желанная, строгая красавица, которая пошла против отцовской воли, решив выйти замуж за нищего студента, изучавшего неизвестную и неперспективную психиатрию в английской больнице, которого она повстречала в Скарборо на каникулах. Случайность — в основе всего.
Отцу ее во мне ничего не нравилось, он был одним из субподрядчиков на великом строительстве гидроэнергетического узла в Шанноне и, как подобает столь важной исторической личности, поставлял туда щебень из коннахтских каменоломен. Но она настояла на своем, и мы поженились. Господи боже, ее многочисленная родня заняла одну сторону церкви, а на другой не было никого, кроме моего приемного отца, который стойко выносил воинственные взгляды с соседнего ряда. Мои родители были католиками, и это могло бы им зачесться, не будь они католиками-англичанами, что в глазах моих новоиспеченных родственников было протестантством куда сильнее настоящего; мои родители казались им по меньшей мере странными и загадочными пришельцами из какого-то другого века, когда у Генриха VIII было шесть жен. Наверное, они думали, что Бет выходит замуж за призрака.
Она же, кажется, более всего на свете желала, чтобы я всегда оставался таким, каким был тогда, и как же я сожалею о том, что этого не случилось. Только своим розам она желала перемен, того странного мгновения цветочной магии, когда розовый куст вдруг мутирует и выбрасывает «спорт»[21] — отличный от сорта цветок. Такой скачок красоты.
— Схожу-ка я в сад, взгляну, нет ли новеньких, — бывало, говорила она в любое время, потому что розы у нее цвели почти круглый год.
Она все ждала, пока Бог, ну или какой угодно таинственный волшебник, который отвечает за розы, сотворит свое чудо. Боюсь, что я не слишком всем этим интересовался. Mea сulpa. Я старался, но так и не мог проникнуться этой страстью. А должен был быть в саду, с ней, вооружившись перчатками и секатором, обмундированием для маленькой войны.
Все эти маленькие грешки пренебрежения теперь нависли надо мной в полный рост. Так можно с ума сойти.
Я и пишу это, чтобы не потерять рассудок. Мне шестьдесят пять лет. Я старше песен «Битлз». По сравнению с некоторыми вещами это, конечно, еще молодость. Но каждый человек, стоя на пороге своего сорокового дня рождения, может с уверенностью заявить, что никакой молодости у него впереди уже не предвидится. Все это как-то бесконечно мелко, нелепо. Человек здравый довольствуется самим качеством жизни и с интересом наблюдает за проходящими годами, своим взрослением, а затем и старением. Но я позорно провалил это задание. Когда Бет умерла, я впервые за много лет посмотрел на себя в зеркало. Конечно же, я каждое утро видел себя в зеркале, подравнивал бороду и все такое, но я никогда не смотрел на себя. И я был поражен тем, что увидел. Я себя не узнал. На макушке волосы поредели, и я седой как лунь, а мне все казалось, что они того же цвета, что и раньше. Морщины на лице как заломы на куске кожи, который долго провалялся под дождем. Я смотрел на себя с ужасом, с отвращением. Пока Бет была жива, я не понимал одной простой вещи. Я старый. Я не знал, что делать. Поэтому я отыскал свою старую бритву и сбрил бороду.
Шестьдесят пять. Еще пара лет, и уйду на пенсию. Не только это здание вот-вот развалится на куски. На пенсию. И что я буду делать на пенсии? Слоняться по Роскоммону? А ведь есть Розанна Макналти, которой сто. Была бы она англичанкой, королева прислала бы ей поздравительную открытку. Рассылает ли Мэри Макалис[22] открытки ирландским долгожителям? Впрочем, уверен, Мэри Макалис, как и весь мир, даже не подозревает о существовании Розанны.
Вообще-то я не собирался писать здесь о себе. Я собирался написать о Розанне.
Потому что тут какая-то тайна. Думаю, что когда-то давно, в заведении наподобие этого, Розанна как-то пострадала от рук тамошних «сестер». Вполне обычная история в те времена. Но страдания ее в реальной жизни, так называемом внешнем мире, были, несомненно, куда страшнее. Я попытался осторожно порасспрашивать ее, так чтобы она не испугалась, не замкнулась в молчании. Она может, и всегда могла, поддерживать легкую и даже шутливую беседу. Так много лет тому назад мы болтали с Бет. Так легко… но нет уж, не будем об этом. Одиноко ли Бет там, где она сейчас лежит? Как же странно было все-таки позвонить в похоронную контору, мимо столь немилого здания которой я так часто проезжал: мимо ее помпезного фасада, мимо ряда катафалков на заднем дворе, мимо тихих профессиональных фраз, мимо цифр, чая, сэндвичей, документов на могилу, церковной службы, погребения. А потом вдруг, в одно утро — умеренные расценки, список необходимых вещей, гроб, который я выбрал во внезапном приступе скупости и о чем потом сильно пожалел на похоронах. Вот что я купил, чтобы похоронить жену.
Похоронить каждую ее черточку, каждый поворот головы, каждую секунду нашей нежности, каждый подарок, каждый сюрприз, каждую шутку, каждую нашу поездку, все отпуска, сначала в Бандоране, а потом в Бенидорме, каждое доброе слово, каждую нужную фразу, все, прихлынувшее к ней, как море, море Бет, поднявшееся из глубин нашей истории, со всего нашего дна морского одной мощной волной, которая обрушилась на мое седеющее побережье, поглотила меня, но, к сожалению, не унесла с собой.
Ну вот. Я опять отвлекся. В последнее время это со мной часто случается.
Розанна. Старая дама. Сailleach из сказок. Такая древняя, но черты лица у нее настолько тонкие, что до сих пор хранят ее молодой, прежний облик. Да, она вся сморщенная, все как положено, и когда медсестра ее моет, наверное, там одна кожа да кости, а все, что в ней раньше было зрелым и прекрасным, теперь высохло, опустело. Можно ли сказать, что Бет избавлена от этого? Бесполезно рассуждать, от чего нас может спасти смерть. Смерть над такими рассуждениями только посмеется, уж я уверен. Из всех земных созданий одна смерть знает цену жизни.
Любопытно было бы посмотреть на фотографию Розанны в молодости. Должно быть, тогда она была красавицей. Но фотографий у нас нет.