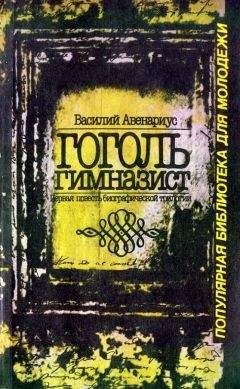Георг Эберс - Homo sum (Ведь я человек)
— Едва ли! — сухо перебил ее Фебиций. — Тебе, пожалуй, хотелось бы жить там под одной кровлей с этим мальчишкой, который дарит тебе пестрые стаканы, да бросает тебе розы в окно, и, может быть, ими усыпал себе тот путь, которым забрался сегодня к тебе. Но есть еще законы, которые ограждают римского гражданина от воров и дерзких обольстителей. Ты слишком часто уже бывала там, напротив, и возилась ты с теми маленькими крикунами, конечно, только для того чтобы встречаться с этим взрослым ребенком, с этим щеголем, который кидает тебе розы, да, чтобы не быть узнанным, надел сверх своей медной тоги овечью шубу. Знаю я влюбленных женщин да любовников, которые расхаживают по ночам! Вижу всех вас насквозь! А через порог Петра ты больше ни шагу! Вот тебе открытое окно. Кричи себе сколько хочешь, и пусть люди хоть сейчас узнают твой позор. Я собирался завтра только отнести эту шкуру к судье. Пойди теперь и приготовь для себя ту комнатку, которая за кухней. Она без окон, значит, неоткуда будет таскать ко мне в дом овечьи шкуры. Поживи-ка вот там, пока не смиришься да не станешь целовать мне ноги, да не признаешься во всем, что происходило сегодня ночью. От рабов сенатора я, конечно, ничего не узнаю, потому что ты и им вскружила головы. Они так и ухмыляются от удовольствия, когда увидят тебя. Ты ведь неразборчива на друзей, будь они хоть в овечьей шубе. Пусть их себе делают что хотят; у меня под руками самый лучший страж для тебя. Я ухожу. Можешь кричать, но приятнее мне было бы, если бы ты молчала. А насчет собаки у нас еще разговор не кончен. Я оставлю ее здесь. Коли будешь молчать и возьмешься за ум, то пусть себе живет; а будешь упрямиться, то нетрудно найти веревку и камень, а до реки недалеко. Я никогда не шучу, а сегодня и подавно!
Сирона была вне себя от волнения. Она порывисто дышала, дрожала всем телом, но не могла найти ни слова возражения.
Фебиций видел, что было у нее на душе, и воскликнул:
— Пыхти да злись сколько душе угодно; придет же час, когда ты приползешь ко мне вот так, как твоя хромоногая собачонка, и будешь умолять о помиловании. Да вот, кстати, у меня явилась новая мысль. Нужна же тебе постель в темной комнате, и постель мягкая, а то ведь твои любовники будут меня бранить. Вот я и постелю там для тебя эту шубу. Видишь, как я умею ценить подарки твоих поклонников!
Он захохотал, поднял одежду отшельника и пошел, взяв с собою лампу, в темную комнату за кухней, где хранилась посуда и разные запасы, которые он начал теперь прибирать, чтобы устроить там спальню для жены, в виновности которой был твердо убежден.
Ради кого она его обманула, он не знал, потому что Мириам сказала ему только:
— Иди домой; там жена твоя смеется со своим любовником.
Уже при последних угрозах мужа Сирона сказала себе, что готова скорее умереть, чем жить еще долее с этим человеком.
Что и она не свободна от вины, это ей уже более и на ум не приходило.
Кто наказывается строже, чем заслужил, тот из-за ошибки судьи легко забывает собственный проступок.
Фебиций был прав.
Ни Петр, ни Дорофея не имели силы защитить ее против него, римского гражданина.
Она должна была сама помочь себе, чтобы не сделаться пленницей, а она не могла жить без воздуха, света и свободы.
Решение ее быстро созрело уже при последних угрожающих словах мужа, и едва он успел переступить порог и отвернуться от нее, как она кинулась к постели, закутала дрожащую собачку в одеяло, схватила ее, как ребенка, на руки и побежала со своей легкой ношей в другую комнату.
Ставни окна, из которого выскочил Ермий, были еще открыты.
Подставив стул, она влезла на окно, спустилась с оконного выступа на улицу и пустилась бежать без цели по направлению к церковному холму и к дороге, которая вела через гору к морю, думая только об одном, как избавиться от заключения и порвать всякую связь с ненавистным мужем.
Ей удалось убежать далеко, потому что Фебиций, приготовив для нее темницу, пробыл очень долго в темной комнате, но не для того чтобы дать ей срок одуматься или чтобы самому обдумать свои дальнейшие меры против нее, а потому что почувствовал себя совершенно обессиленным.
Центуриону было под шестьдесят, и его некогда сильный, но разрушенный распутной жизнью организм не мог долее выдержать усилий и волнений этой ночи.
Этот худощавый, нервный, чрезвычайно подвижный человек обыкновенно впадал в такое бессилие только днем, тогда как после захода солнца с его старообразной, только при отправлении служебных обязанностей еще юношески бодрой наружностью происходила удивительная перемена: тяжелые веки, почти совсем покрывающие зрачки глаз, подымались, отвислая нижняя губа энергично поджималась, длинная шея с узенькой продолговатой головой выпрямлялась, и когда он в поздний час отправлялся куда-нибудь на пир или на служение Митры, всякий назвал бы его еще видным, моложавым человеком.
Во хмелю он не бывал весел, а дик, хвастлив и буен. Иногда случалось, что он и во время пира впадал в то бессилие, которое часто пугало и Сирону и от которого он был совершенно избавлен только тогда, когда командовал своим отрядом.
В часы такого изнеможения вид этого страстного высокорослого человека был ужасен: его желтоватое лицо покрывалось смертельной бледностью, спина его казалась точно сломленной, все члены точно вывихнутыми. Только зрачки глаз оставались в непрерывном движении, и время от времени дрожь трясла все тело.
Когда находило на него такое состояние, его люди говорили, что центурион опять во власти своего бледного демона, и он сам верил в этого злого духа и страшился его. Он даже неоднократно пытался избавиться от него при помощи языческих и даже христианских заклинателей.
Теперь он сидел в темной комнате на овечьей шкуре, которую, издеваясь над женой, разостлал на жесткой деревянной скамье.
Руки и ноги похолодели, глаза горели, от изнеможения он не мог пошевельнуть ни одним пальцем. Только губы судорожно подергивались, а перед мысленным взором его проходили картины прошлого, далекого прошлого, предшествовавшего последнему, страшному часу.
«Если бы я, — размышлял центурион, — после этого шального бега, который и не всякому молодому был бы под силу, дал полную волю своей ярости, вместо того чтобы ее насильственно сдерживать, то демон не овладел бы мною так легко. А как сверкали глаза у этого дьявола, у Мириам, когда она сказала, что какой-то мужчина обманывает меня! Конечно, она видела того, кто был в шубе; но как раз перед оазисом я потерял ее из виду. Должно быть, она убежала назад, на гору. И что сделала ей Сирона? Ведь обыкновенно она ловит своими глазами сердца не хуже птицелова, который дудкой приманивает птиц. Ведь как бегала за нею римская молодежь! А не обманывала ли она меня и там? Легата28 Квинтилла, который готов был мне услужить и враждебности которого я обязан теперь этой дуре, она прогнала; но он был еще старше меня, а она ищет, конечно, кто помоложе. Она такая же, как и все! Надо же было мне знать это! И всегда ведь так бывает в жизни: сегодня ты побьешь, а завтра побьют тебя самого!»
Болезненная улыбка мелькнула на губах центуриона, и вслед за тем черты его лица приняли мрачное выражение, потому что разные тягостные картины восстали ясно и неотразимо в его воображении.
Совесть его находилась в обратном отношении к бодрости тела.
Когда он чувствовал себя здоровым, мрачные картины прошлого не тревожили его, в минуты же изнеможения он не мог противиться своему бледному демону, заставлявшему его вспоминать с мучительною ясностью именно все те случаи, которые он более всего желал бы забыть.
И вот в этот час он невольно вспомнил своего благодетеля и начальника, легата Сервиана, и его красавицу-жену, которую он обольстил разными уловками и побудил оставить мужа и ребенка и бежать с ним.
Теперь ему вдруг почудилось, что он сам и есть легат Сервиан, не переставая в то же время быть и самим собою.
Он перечувствовал всю боль и всю горечь, которую испытал по его вине обманутый им благодетель, а подлец, обманувший его, Сервиана, был не кто иной, как он же сам, галл Фебиций. Он силился сопротивляться, раздумывал, как бы отомстить соблазнителю, и при всем том не терял вполне сознания своей личности.
Путаница этих безумных мыслей, которые центурион тщетно силился от себя отогнать, грозила свести его с ума, и он громко вздохнул.
Звук собственного голоса возвратил его к действительности.
Он был Фебиций и не кто иной, это стало ему ясно, и все же ему еще не удавалось вполне освоиться со своим настоящим положением.
Призрак прекрасной Гликеры, которая последовала за ним в Александрию и которую он там покинул, промотав до последнего солида29 свои деньги и ее драгоценности, все являлся перед его воображением вместе с призраком жены Сироны.
Гликера была невеселой любовницей, много плакала и мало смеялась с тех пор как покинула мужа. И теперь ему точно слышались из ее уст тихие упреки, тогда как Сирона осмеливалась осыпать его громкими угрозами и многозначительно призывать сенаторского сына Поликарпа.