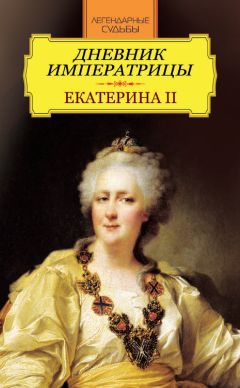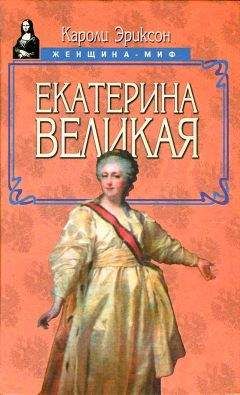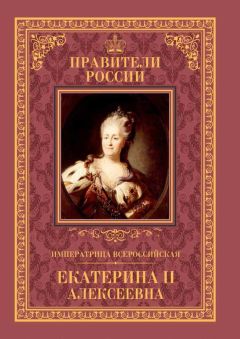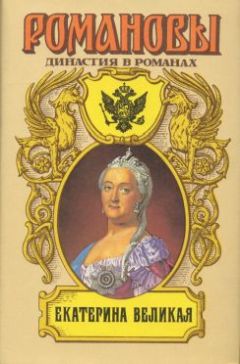Вадим Полуян - Юрий Звенигородский
На другой день, — дядюшка Владимир Андреевич оказался прав, — выпал прочный снег. Люди серпуховского князя поставили подбитые соболями сани, упряжь ременная, обшитая красным сукном. Поезд составился — любо-дорого поглядеть!
Вот уж и день отъезда. Двухнедельное новгородское ожидание подходило к концу, а смоленской княжны Юрий здесь даже издали не узрел. Селиван так и не подал знака. Сам мелькал на мгновения — ни узнать, ни спросить! Зато дядька Борис все время — тут как тут. Третьего дня поведал, как избавился от мучительной боли в ухе, приобретенной еще по дороге во Псков. Нашел на улице Михалице знахаря именем Галактион Хариега. Тот свернул воронкой лист сахарной бумаги, вставил узкий конец в больное ухо и зажег широкий конец. Когда воронка сгорела почти вся, Галактион легким ударом выбил из уха бумажный остаток. И боль исчезла немедленно. Вчера же Галицкий прямо-таки удивил князя: «Нашел провидца. Зовут — Мина Гробов. Предрекает будущее по взвару корня под названием живокост». Юрий смерил глазами дядьку, вспомнил, как на Москве тот приглашал посетить колдуна Орефу. А теперь — Мина. «Ужли пойдешь?» Борис вздохнул безответно и удалился. Нынче за утренней трапезой вновь спросил:
— Был у гадателя-вещуна?
Дядька потупил очи:
— Малое время спустя пойду.
Юрий опорожнил кружку с клюквенным взваром и решительно произнес:
— Я — с тобой.
Пришлось открыться серпуховскому дядюшке, что хочет прогуляться по улицам Торговой стороны, приглядеть ремесленные изделия. Не уйдешь, не сказавшись: обыщутся!
— К полудню не опоздай. Отбываем, — напомнил Владимир Храбрый.
Галицкий, как потомственный новгородец, уверенно вел по кривым закоулкам, улицам, тупикам, пока не отворил дверь в лачугу, где, кроме очага, всего лишь — стол да лавка. Мина Гробов — белая борода по колено, лысый, как горшок, толстый, как полубеременная куфа из-под браги[34].
— Нацнем со второго по знацению московиця, — местным говорком изрек старец, глянув на Юрия. И вытянул руку: — Клади цепь!
Вот уж волхв так волхв! Знает, что золотая цепь скрыта у князя на груди.
Получив плату, сварил на очаге измельченный корень, слил в порожнюю чашку жидкость, оставил гущу. Потом три ложки пересыпал в питьевую чашу, накрыл глубоким блюдцем и, многажды поопрокинув, водрузил на стол. Затем налил чистой воды в чистое блюдце, взял чашу за дно, три раза опустил ее в блюдце с водою. Причем следил, чтобы не перевернуть и кругом не обернуть. Что он шептал при этом, ни князь, ни Галицкий не разобрали. Вот Мина поднял чашу кверху, стал смотреть на густоту, приставшую к краям. Она как бы изображала некие предметы, лишь ему ведомые.
— Женишься, — в конце концов объявил Юрию провидец. — У ней на шее знак. Под подбородком: розовая бусинка! Лик — красота неописуемая! Стан — лоза гибкая. Любиться, миловаться будете всю жизнь. Родит тебе троих сынов. Наберись духу: первый будет ослеплен, второй отравлен, третий умрет юным беспричинно. Будь настороже: с неправым не судись, со слабым не борись.
Юрий не вдруг осознал до дна столь суровое предсказание. Постоял, словно в столбняке, потом круто развернулся и молча вышел. Дядька нагнал его у Большого моста через Волхов.
— Правильно идешь, господин. Ни разу не сбился.
— А тебе что предсказано?
Галицкий откровенно ответил:
— Не стал гадать: испугался услышанного. Да ты, Юрий Дмитрич, не бери в память болтовню дурного вещуна. Такое натарабанил, нарочно не выдумаешь!
Юрий проворчал, соглашаясь:
— Разгул необузданной думки!
Подходя к Городищу, столкнулись с выезжающим санным поездом. Дядюшка Владимир Андреич узнал переодетого князя:
— Ну нельзя же так, Гюргий! Что за ребячество! Твой скарб погружен, конь — в поводу у Селиванова челядинца. — Глянув на Галицкого, серпуховский князь заметил: — Добаламутишься, Борька! Ей-ей, добаламутишься!
Селиван, рядом с которым поскакал Юрий, приблизился стремя в стремя и виновато оповестил:
— Поверь, княже, я старался. Однако Софью на метле не объедешь. Подозрительна и хитра, как ее родитель. Заставила на себя работать все глаза и уши всех своих челядинок.
Юрий кивнул без всяких расспросов, ибо при встречном ветре трудно было длить разговор.
Ехали по возвышенному открытому месту. Ветер стал потише, когда навстречу пошли леса, густые, высокоствольные. Через кроны лишь кое-где видно небо. Потом возвышенность снова сменилась низменностью. Ель стала низкорослее, пошли заросли осины, березы, ольхи, воздух — влажнее: уже не осенний, а почти зимний. Князь дышал через шерстяную варежку. Не любил он сырой зимы.
Укорачивающиеся ноябрьские дни удлиняли путь. Если на ямских станах Новгородчины удавалось менять коней, в Великом княжестве Тверском переговоры велись без толку. Сто причин находилось для отказа: надо срочно вывозить из леса дрова, сено, что в полевых стогах, а чернедь-мужики[35] лошадьми не богаты, — татары отнимают, князья берут, а тут еще от Осташкова до Нового Торга начался падеж конский, неведом отчего. Всему этому Владимир Храбрый не верил: «Козни Михаила Тверского!»
Лишь по въезде в Торжок обстоятельства изменились коренным образом. На большой стоянке в воеводской избе новоторжцы рассказывали московским князьям и боярам, как разорял их семнадцать лет назад великий князь Тверской. Мстил за то, что решили в союзе с Москвой противиться ему и его друзьям — Литве с рижскими немцами. Тверитяне зажгли город с конца по ветру, раздевали донага жен, девиц и монахинь, грабили храмы, уводили полон. Три церкви осталось на пепелище, и то потому, что каменные. В самый разгар жалоб явились в избе посланные из Твери и сказали, что кони в поезде Софьи Витовтовны будут неукоснительно меняться на каждом стане, и что великий князь Михаил с нетерпением ждет свидания с дочкой своего друга Витовта. Новость заставила призадуматься и Владимира Храброго, и Юрия, и бояр.
— Надобно обойти город Тверь, — предложил Александр Борисович Поле. — Непригожие, вовсе ненужные слова коснутся ушей нашей будущей великой княгини о ее свекре.
— Какие слова? — спросил Юрий.
Брат опального Свибла, Михаил Андреевич Челядня, усмехнулся:
— Ну хотя бы то, как твой благоверный родитель, блаженной памяти Дмитрий Иванович, любезно пригласил к себе соперника из Твери, дабы устроить третейский суд меж ним и Василием Кашинским. Михаил поверил, приехал. Его тут же взяли под стражу, разлучили с ближними, тоже попавшими в заточение, долго продержали под спудом и выпустили лишь из боязни вмешательства Орды. А перед тем принудили поцеловать крест…
— Достаточно, — перебил Челядню Владимир Храбрый. — Твои слова, боярин, заслуживают того, чтобы нам обогнуть стольный град нашего нынешнего приятеля Михаила.
На том и было решено. Разошлись для сборов в дальнейший путь. Юрий с Галицким удалились в отведенную им избу.
Вечерело. На скобленом столе дымились блюда с налимьей ухой, горкой лежал нарезанный, подрумяненный тавранчук[36] стерляжий. Однако князь возлежал на лавке, не подымаясь к столу. Борис подосадовал:
— Без тебя мне не сесть, господин, а есть хочется.
Юрий горестно произнес:
— Невезучий я, неумелый! В Пскове, в Новгороде, в Торжке никак словом не перемолвлюсь с княжной Смоленской. А ведь сопроводит она Софью и будет отвезена к отцу или к брату, что у Витовта в заложниках. Селиван обещал устроить краткую встречу, да всуе.
Галицкий сел на другую лавку, что стояла углом в ногах Юрия.
— Селива-а-ан! А еще сын воинственного Боброка. Обходителен, говорит по-литовски. — Он покрутил залихватский ус. — Я не говорю по-литовски. На пальцах изъяснил Настасьиной сенной девке Вассе, какая мзда ее ждет, коли поспособствует встрече двух сердец. Вижу взоры красавицы, едящие поедом твою милость, чую, как и ты занозился ею. Хотел проверить у ведуна ваши судьбы, да он напугал тебя, старый филин.
Князь, нехотя, сел за стол. Принялись за ужин.
— Стало быть, вот какие действия у меня на уме, — продолжал, жуя, Борис. — Путь наш теперь не на Тверь, а на Лихославль. Переберемся через Медведицу, далее будет озеро Круглое. По нему ледяная дорога уже окрепла: ею ближе проехать к Волге. А на озере — остров. А на нем — древняя город-крепость под названием Кличин. Туда в Батыево нашествие кликали жителей всех окрестных сел, ради их спасения. Вот наша хорошуля-княжна и пристанет к своей литвинке: хочу, дескать, осмотреть затейливую деревянную башню. Я с боярами поддержу, а ты вызовешься сопроводить. Да и защитить при надобности, — этакий богатырь, вылитый отец, князь Дмитрий Иванович!
Трапезу прервал серпуховской воевода Акинф Федорыч Шуба, всюду сопутствующий Владимиру Храброму.
— Прошу прощения. Велено поспешать. Едем в ночь на сменных конях.