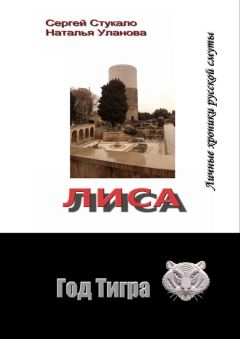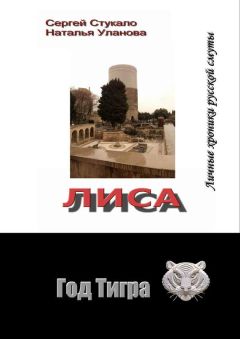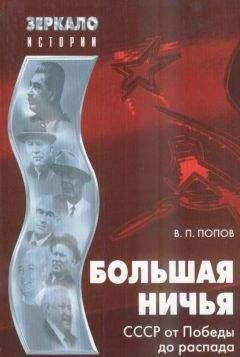Михаил Попов - Ломоносов: поступь Титана
— Ужо вам, тати! — кидает напоследок Михайла и, сверкая очами, ровно молодой Петр, уносится прочь. Он еще вернется в Академию. Он еще им покажет, этим заморским плутням! Они еще узнают, что такое росский норов и неукротимость! Еще изведают его блистательный ум и поморскую упрямку!
10
Полукружье оконца забрано железами. Сквозь него на каменный пол падают отраженные солнечные пятна. Здесь до того жарко, что, кажется, плавится рассудок. Ускользает даже простейшая мысль. Невозможно, к примеру, понять, на что похожи эти зыбкие солнечные ляпаки.
Михайла, обнаженный по пояс, сидит на табурете спиной к столу, руки его раскинуты по столешнице. На нем короткие порты да башмаки на босу ногу. Он угрюмо глядит в оконце, из которого зримо пышет зноем. Два железных шкворня разделяют полукружье на три части, и кажется, то не жар, а три склизкие змеи ползут в каземат. Ползут, обвивают тугими кольцами все его существо, покрывая зловонной слизью тело. Ни в каком углу нет от этих тварей спасу — ни на койке, прикованной цепями к стене, ни на ворохе соломы, брошенной в угол. Нигде.
Глаза Михайлы застит испарина. Она до того обильна да солона, что все вокруг теряет очертания. Даже черные зубья оконца. Зрительная хмарь мешается с мороком рассудка, и вот уже блазнится, что это вовсе не оконце, забранное в железы, а воротца какой-то дальней заставы. Какая застава зыбится перед истомленным взором? A-а! Да это воротца за Даниловом-городком. Вот куда, рыская в поисках не то схорона, не то выхода, кидается память.
Было это в обозе, с коим он, Михайла, наладился в Москву. Три недели топали-ехали поморцы до Белокаменной. И всю-то дорогу его, сиротею, не отпускала смута. Тревожило грядущее, обдавая сердце то жаром, то студенцом: как-то оно там? Что его ждет? Но того более, кажется, бередило оставленное. Да как! Толь зримо и толь яро — никакого спасу не было. То сиверик охлестывал тугой удавкой, аж дыхало спирало. То поземка визжала и рвала овчинные полы, ровно бешеная сука. И до того он дооглядывался да доуворачивался, топая следом за дровнями, что где-то перед Вологдой ухнул под угор. Добро, дедко Пафнутий, на чьих дровнях порой мостился, заметил пропажу, а то бы не миновать беды. «Ты чека, паря, ворон считашь? — подсобляя вызняться из глыбкого сугроба, корил он. — Наладился вперед, дак кормилом-то не рыскай. Прямо гляди». Вот тут-то Михайла и поведал о своей кручине: хотя и далече обоз утянулся от отчины, а всё смутно, всё мерещится, что ведьма-мачеха догоном грозит. Дело-то, признаться, было не в мачехе. Сама прежняя жизнь стала в тягость, потому как не давала воли его пытливости и зреющему уму. Но Пафнутию-то он в том не открылся, смекнув, что старик может и не понять. А причину своей смуты обратил на мачеху. «Эвон как! — отеплев сердцем, отозвался Пафнутий. — Ну, ништо, паря! Мы ее отвадим, эту уросину. Вот Офанасий Ломонос придет — и отвадим ужо! Помяни мое слово». 18 января, как и заведено по стародавним памятям, ударил мороз, да такой ядреный, да такой хваткий, что на Даниловском подворье бревна за-потрескивали. «Пришел Афоня — нос береги ноне», — пыхали мужики-обозники, запрягая лошадей. «На Офанасия Ломоноса не задирай носа», — отзывалась дворня. А старый Пафнутий, дальний — по матушке-покоенке — матигорский сродник, выйдя на крыльцо, ударил рукавицей об рукавицу, крякнул и сквозь куделю бороды пыханул: «О! В самый раз! Вот такой мороз и нать, штоб нечисту силу батогами гнать». Когда рыбный обоз потянулся из Данилова, дедко Пафнутий, пропустив всехсопутников, выехал с подворья последним. Возле градской заставы он остановил своего Чалого и велел Михайле затворить ворота. А уж после приступил вершить то, что посулил. Долго дедко-ведун топтался возле наборных ворот, долго ширкал рукавицами подоскам да что-то бормотал-покрикивал, конца-края этому не было.
Уже и Чалый запоматывал недовольно головой, застоявшись на стуже, уже и Михайла обтоптал округ себя снег, дабы не околеть, пока наконец старик не подошел к концовке заговора. Напоследок он вытащил из потая тулупа темную скляночку, откупорив ее, отхлебнул и прыснул на ворота. Брызги пучком сыпанули в доски — как раз на стыке створов — и мигом заиндевели, образовав пятно, похожее на человеческий череп, даже проемы глазниц проступили темными пятнами. «Во, паря! — довольно заключил Пафнутий, — Теперя шабаш! Ежели полетит тая ведьма, неминуче лоб об энти ворота расквасит. Не сумлевайся». Под косматыми бровями мерцали раскаленные уголья. Михайла глядел в них с опаской и недоверием. А ведь все сделалось так, как и сулил ведун. С той поры Михайла и впрямь шел без оглядки, точно там, у заставы Данилова-городка, судьба таки перегрызла незримое кодолище, коим удерживало его опостылевшее прошлое.
Давнее воспоминание касается края сознания и разом откатывается, ровно волна зноя, оставляя во рту сухость. Михайла ломко ворочает шеей. Дышать нечем. Воздух раскален. Вдобавок ко всему из околенного проема несет гарью. Это уже едва не месяц чадит заневская болотина. О конец июня выгорела вся Мойка, ни одной постройки на ней не осталось. Поговаривают, поджог, да запальщиков так и не нашли. А пожарище и поселе тлеет.
Рука узника нащупывает оловянную кружку. В забытьи он хватает ее. Но тут же, не донеся воду до пересохших губ, с отвращением выплескивает. Кружка раскалена — вода в ней едва не кипит. К лешему! Кружка летит в сторону окна. Вода на миг отемняет солнечные пятна. Но ярый жар мигом слизывает остатки воды, и испарения вместе с пылью, поднятой кружкой, еще явственней проявляют змеиные кольца. Михайла устало смахивает с залысин испарину, тыльной стороной ладони протирает глаза. Кого напоминают эти три змеиные образины? Они тянутся к нему, шипят, норовя оковать его тело, удушить склизкими кольцами, впиться в его усталое сердце. А! Вот это кто! Посередке Шумахер. По бокам не то Вингсгейм и Тауберт, не то Трускот и Штурм. А посередке точно Шумахер. Нет, Пафнутий, таких заговором не одолеть! Тут иная сила потребна. У, аспиды! У, змеи подколодные! Рука Михайлы вздымается над головой. Где ты, меч-кладенец? Явись в карающей деснице, дабы укротить этих тварей! Взгляд тянется вверх. Увы! Нет меча. Рука безвольно падает на колени, закрывая заплату на кюлотах, а вместе с нею опадает и всколыхнувшееся было сердце. Нет, брат, ты не Илья Муромец, богатырь былинный. А перед тобой не Змей Горыныч о трех головах, пышущих полымем. Ты не Илья, ты Аника-воин с деревянной саблюшкой, вот ты кто. Да не с саблюшкой — с деревянной колотушкой, болванкой для парика.
Стыд и мука охватывают Михайлу. Он бросается на ворох соломы, силясь укрыться от внезапно нахлынувшего воспоминания. Да где там! Ты ведь не мышка, чтобы схорониться в соломе, а Мишка. Разве от себя спрячешься?
Не так досадно, что, хвативши малость из штофа, гнев свой выплеснул в Академии — поделом им, татям напудренным! А то стыдно, что гонял соседей. Конечно, повод для того был — пропал полушубок. Двери-то в казенной фатере хлипкие, вот кто-то и воспользовался. Но кто? Стал выспрашивать. К одному пихнулся — тот плечами пожимает. К другому — то же самое. Наконец сунулся к Штурму. Не ты ли, дескать, герр садовник, решил попользоваться моей одежонкой, почуяв ядреный русский зазимок? А у того гезауф — пирушка. Гогот стоит, немецкий гвалт, капустой кислой да сосисками пахнет, табак брезиль клубами. Весело, сыто и пьяно. Русский хозяин при таком раскладе заприглашал бы к столу, мол, не кручинься, соседушка, сыщется твоя пропажа, а покуда садись с нами, гостеньком будешь, вдругорядь сам взаимообразно угостишь, верно? А тут — нет. У немцев так не водится. И Штурм — не исключение. Что с того, что сосед? Что с того, что ведал, сколь давно русский адъюнкт в отличие от него, немецкого садовника, не получал в Академии жалованья. Криво ухмыльнулся, сделал оскорбленное лицо и показал на дверь, только что «фас!» не рявкнул, как немецкие бюргеры командуют своим овчаркам. Но эта свора и без науськиванья взъярилась. Вскочили со скамеек, зарычали на все голоса: вас истдас? русише швайн! херраус, херраус! шнель![7] Не стерпело у него, Михайлы, ретивое: влепил по рылу одному, дал затрещину другому. Они стаей-то лаются, а поодинке враз хвосты поджали. А уж схватил он, Михайла, деревянную колотушку — болванку для парика, — и вовсе кинулись врассыпную. Кто в двери норовит выскользнуть, кто под стол хоронится… И смех, и грех. Нет, не так: сперва смех, а опосля — грех. Ладно бы мужиков гонял, немчуру эту толстопятую. Так ведь там и бабы сидели. А Штурмерша, хозяйка, к тому же на сносях была. До того ополоумела, дуреха, что в окно полезла. Слава богу, нижний этаж, а то бы не миновать беды. Да и так, знамодело, неладно. Ведь напугал. Как там отпрыск-то? Хоть и в срок разродилась, а все одно думно.
Сердце узника, истомленное зноем, стонет и изнывает. Но, кажется, того боле долит тоска. Никому-то он здесь не нужен, ровно на чужбине. Никто за него не вступится, некому слово замолвить. Те, кто горюют о его доле, природные русаки, — невелики чином. А академический синклит — сплошь немцы. Они, приспешники Шумахера, ныне сладостно потирают руки, загнав русского буяна в каземат. Из всех профессоров, пожалуй, один Георг Рихман благоволит ему, ссужая подчас деньгами. Да и тот делает это тайком.