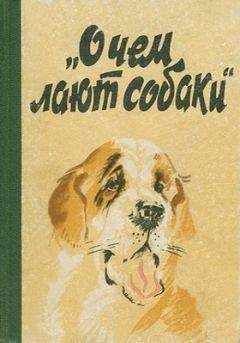Яцек Денель - Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя
А потом я вдруг почувствовал – умер. И больше я не застану его в живых, теперь мне не придется заглядывать ему в глаза, терпеть его презрительный взгляд, унылые претензии, застоявшиеся обиды. Наконец-то я мог поехать. Я знал: Гумерсинда на месте и утрясет наши дела. Сразу после его смерти в доме побывали толпы людей. Гаулон, известный своей новой техникой литографии, он, впрочем, позднее помог мне с завещанием, позвал какого-то де Торре, чтоб тот нарисовал старого барсука на ложе смерти; я видел набросок, ничего особенного, но они, безусловно, зашибут деньгу на клише. Какой-то купец, которого он когда-то написал, заплатил за похороны, Молина зарегистрировал смерть в мэрии, правда, ошибся в возрасте, ну да Бог с ним. Гумерсинда выбрала для глухаря место на кладбище картезианцев, рядом со своим отцом; почему бы и нет, не подерутся, я думаю. И занялась остальным: приняла консула, которому надлежало засвидетельствовать смерть и подтвердить личность умершего, купила у францисканцев монашеское облачение, ибо старик хотел, чтоб его похоронили в коричневой рясе, дополнительно оплатила плакальщиц (как раз без этого можно было обойтись) и все время успокаивала эту женщину, что, мол, как только я приеду, все образуется и мы честно поделим наследство. Ну и поделили. Перво-наперво я разыскал пистолеты, я был уверен, что это ценные вещи, высокого класса; отец отличался великолепным вкусом, если речь шла о всяческом оружии, с помощью которого можно застрелить, заколоть или зарезать живое существо, вскрыть ему жилы, раскроить череп, – тут денег он не жалел. Позже занялся серебром, что вполне естественно, хорошо, хоть прислуга позаботилась о нем как полагается и до моего приезда ничего не пропало; только одна тарелочка куда-то запропастилась. Но кто-то вспомнил, что лежит она возле постели, на которой умирал старик. Я пошел наверх – ложе уже было застлано, а посредине лежал маленький увядший букетик, наверно, Росарио положила. Я взял тарелочку и с минуту постоял. Я думал о нем. О том, что он не выносил сентиментальных жестов и никогда не рисовал цветов. Пожелай она сделать ему приятное, ей следовало бы положить цесарку со свернутой шеей, телячью голову с содранной шкурой, что-нибудь из того, что он мог бы написать, – да разве благопристойной глупой девице со своими изощренными нудными штришками понять такое?! Цветочки-василечки. Эх! Взял я тарелочку, спустился на кухню и проследил, чтоб все было как следует упаковано и выслано в Мадрид.
А потом пошел к той женщине и сказал ей, довольно-таки сухо и вразумительно, ведь я же не собирался устраивать сцен или наслаждаться ее упадком, не собирался и признаваться, что для меня это в каком-то смысле победа; поэтому я сказал ей сухо, доходчиво и, как мне кажется, весьма великодушно: «Вы находитесь в чужой стране и, быть может, захотите вернуться на родину; вот вам платежное поручение на тысячу франков, этого должно хватить». Так и хотелось добавить что-нибудь типа: муж, мол, наверняка ждет вас с нетерпением, но это было бы подло. «Мебель и одежду можете оставить себе», – только и добавил. Она начала что-то там лепетать, что-де ищет дешевую квартиру, но ведь Франсиско собирался указать ее в завещании, и такая запись имеется, а к тому же фортепиано, его придется продать, а это страшно огорчит Росарио – говорила она несвязно, путаясь в мыслях, я стоял (а что прикажете делать?), держа двумя пальцами бумажку на тысячу франков; в конце концов сунул ей в руку и сказал: «Если есть какая-либо запись насчет вас, будьте любезны, найдите ее и обязательно отнесите нотариусу. А сейчас прошу извинить, у меня дела». И поклонился, но без всякой чопорности, просто приложил руку к полям шляпы и вышел. Квартира была оплачена до конца месяца, и всем нам следовало как можно быстрее отсюда съехать, вот я и пошел искать какую-нибудь приличную гостиницу, в которой мы с Гумерсиндой и Мариано могли бы остановиться.
XXIII. Собака[91]
Она одна. Совершенно одна. Одинокая собака несчастна. Некоторые считают, что она тонет в зыбучих песках, другие – что лишь высовывает голову из-за сожженного солнцем пригорка; но собаке-то все равно, тонет она или бежит по бесконечной прожаренной земле, по раскаленному пеплу. Ибо ей вообще все равно.
Даже если с большой точностью высчитать поверхность головы собаки – ее отвисшего уха, видимого кусочка шеи, черного пятнышка обнюхивающего носа и белого, исполненного тоски пятнышка глаза – и если посмотреть, сколько раз эта поверхность помещается на глади безбрежного холма с его грязновато-коричневатой ван-дейковской колористикой, с охристой, разбеленной палящим солнцем (и чуточкой свинцовых белил) землей, даже если разделить все это огромное пустое пространство на отсутствие пустого пространства, то есть на поверхность головы одинокой собаки, то и так невозможно осознать, как она страдает.
Мир разнолик, запахов великое множество – и тех, что расползаются низко, по самой земле, и тех, что несет ветер. Благоухание кожаного ремня, пощипывающий ноздри смрад пороха и легкая духовитая струйка – это застреленная утка падает откуда-то сверху и с сухим треском шлепается в редкие заросли; целый букет вони и ароматов, исходящих от города: сточные канавы, наодеколоненные шеи, подгнивающие на солнце кочаны капусты на лотках, спелые дыни, готовые потрескаться от обилия сока, кровь у мясников, тошнотворная, дикая, широкой струей стекающая в каменный желоб и далее, на улицу; и те благовония, что совсем близко: крот, выжженные травы, ботинки хозяина, который вновь поднимает ружье и прицеливается в утку; мир разнолик – а все-таки без запаха он как бы лишен выразительности, неинтересен, будто плоская стена. Ноздри, те, что могли разрисовать всю карту окрестностей с ее постоянными точками (меченной другими дворнягами каменной оградой хозяйства, шибающими ладаном воротами церкви, дубильной мастерской над ручьем) и перемещающимися (псами, котами, коровами, гонимыми по белой от жары дороге, людьми с их всевозможной вонью), – теперь эти ноздри бессильны; иногда говорят, что отчаяние лишает человека чувств, он перестает видеть, слышать, осязать и обонять, и если оно лишает их человека, так почему бы не лишало собаку?
Сначала она тосковала по всему хорошему: по теплой подстилке возле домашнего очага, мясным обрезкам, редким нежностям, когда хозяину нечего было делать и он ради прихоти трепал ее по холке; потом по обыденным вещам, по тому, как моталась она по двору и окрестностям, как жила вместе со всеми. А теперь она тоскует даже по палке и цепи, на которую ее сажали, когда провинилась. Она тоскует по палке, обрушивающейся ей на спину, по визгливому писку, вырывающемуся у нее из горла, потому что другой конец палки сжимала рука – рука ее хозяина.
XXIV
Понятия не имею, что я себе воображал тогда, в Мадриде, когда старался ощутить на лице ветерок с Пиренеев. Что он мог принести? Мне казалось, что свобода – это Свобода, это землетрясение, вздымающее долины и обращающее горы в пыль, а между тем мы вернулись из Бордо, занялись бумагами, принятием наследства, выплатой всем этим дармоедам, которым отец еще по просьбе матери записал по нескольку реалов, – больницам, домам паломников в Иерусалиме и так далее, худо-бедно разобрались с Леокадией и ее претензиями… и вдруг оказалось, что прошел год, целый год, а я ничуть не стал свободнее.
Не скрою, денег стало больше, но что я, до сих пор бедствовал? С таким-то отцом?! Дела всегда шли неплохо, а если в какой-то момент похуже, то ведь на продажу были горы холстов. Настоящий Гойя, из самого что ни есть надежного источника. А на черный день – то, что досталось мне при разделе имущества перед его бегством из Испании: Корреджо, Веласкес, гравюры Рембрандта, все что хотите. И добро бы на старость он успокоился, так нет же, и дальше тащил свой воз, как мул, как першерон, и то, и се, и графика, и портреты, и рисунки, и миниатюры; был слеп как крот, глух как пень, слаб, как каракатица, но все садился, все ковырял, все писал, и стирал, и снова писал, будто то, что клубилось в его зашпунтованной башке, могло найти выход только через пальцы на бумагу, на литографический камень, на пластину из слоновой кости, на лист эскизника; а как же его носило, как же хотел он все видеть, насытить свои полуслепые глаза разнообразнейшими картинами. Всего. Нищих, молодежи на роликах, сумасшедших. Еще в Бордо, с тремя парами очков на носу, едва волочащий ногами, он велел отвезти себя в дом умалишенных и провел там целый день, писал и писал, пока хватило света. А когда не было ничего, на чем он мог бы остановить свой взгляд, тогда погружался в сон. Даже во сне работал, видел сны, а потом эти сны переносил на бумагу. Этот человек был ходячим чеканщиком эскудо, реалов, дублонов, этаким небольшим монетным двором с постоянным доступом к драгоценному металлу. Сколько помнится, с деньгами трудностей не бывало – только во время войны, когда выгнали короля и никто ему не платил жалованья; но и тогда он писал адъютанта короля Бутылки, французского генерала, как же его… и эту гнусную «Аллегорию Мадрида», которую сам, с позволения сказать, называл… не скажу, как именно, но с ушами… а холст потом переделывали столько раз, сколько раз в город входили иные войска… и Веллингтона, но это уже потом, верхом на коне, на редкость неудавшемся коне, ой как неудавшемся. А как же он бесился, когда его писал, даже в прислугу стаканом запустил! Да, с конями у него были нелады.