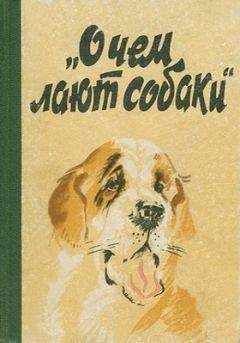Яцек Денель - Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя
А все-таки стоило мне вернуться во Францию, как я тут же затосковал по ним; когда я проваливаюсь в дремоту – а такое у меня случается все чаще, – вижу их так отчетливо, будто они сидят передо мной. Шлю им письмо за письмом – и все время какие-то отговорки. Хоть ясно пишу, мол, покрою все дорожные расходы, ни одного реала, мол, не придется вам потратить.
А в другой раз говорю себе: куда ты торопишься, старый хрыч? До Тициана тебе еще ой как далеко!
Говорит ХавьерЯ всю жизнь много читал и, пожалуй, только в чтении знаю толк, умею прочесть между строк не хуже, чем сами строчки. Я предчувствовал, приближается тот конец, о котором много лет назад говорил доктор Арриета; ну и пришел черед старого козла.
А вот очередной капричос: в кровати умирающий старик в ночном колпаке, а под кроватью черный силуэт на фоне белых простыней – это молоденькая любовница роется в кофрах. Ему простительно оказаться обманутым, мне – нет. Франция прислала нам на помощь «сто тысяч сыновей Святого Людовика»[89], я же послал во Францию на спасение наследства Гумерсинду с малым. Так что мы квиты.
XXI
Мать всю дорогу сетовала себе под нос. На пассажиров, на ямщика, на ухабы. Вполголоса, шепотом, бу-бу-бу, бу-бу-бу. И так изо дня в день. Переставала, лишь когда ложилась спать, но я все равно слышал из-за перегородки, как она бормотала сквозь сон. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Приехали мы двадцать восьмого ближе к вечеру, чтоб успеть на день рождения. Восемьдесят второй. Но дед, он ведь какой? Больше обрадовался нам, чем подаркам. А еще больше тому, что приготовил для нас, а не получил от нас. Точнее, что должен был получить, но не успел. В первый день мы застали у него Бругаду и Молину, он в последнее время писал Молину – неоконченный холст так и остался стоять на мольберте, прикрытый тонким полотном. Слушали, как Росарио играет на фортепьяно веселенькие пьески, она их недавно разучила – и было так приятно, что дед, который раньше хотел затащить Молину в мастерскую «хотя бы на десять минуточек», чтоб закончить портрет или на худой конец положить новый слой тени и немного поработать над сюртуком, решил остаться и «послушать Росарио», даром что ни одной ноты не слышал; но ему хватало того, что видел: как она перебирает пальцами на клавиатуре, как высовывает язык на трудных пассажах, это его тешило больше, чем если бы он смотрел на лучших тореадоров своей молодости.
Двадцать девятого мы еще успели отобедать все вместе (обед подали раньше положенного времени), сидели за одним столом с доньей Леокадией и малявкой Росарио, которая была в праздничном платье, их общество стоило маме нервов; отсутствовал только Гуиллермо, он на два дня выехал из города. После обеда я помог деду перейти в гостиную, но дед сказал, что в связи с нашим приездом к нему вернулся волчий аппетит, и он страшно объелся, а точнее, «набил кишки» и должен прилечь.
Назавтра, в день рождения деда, меня разбудили крики – это донья Леокадия влетела в комнату вся растрепанная, с покрасневшим от слез и возбуждения лицом, и стала нескладно объяснять, что он-де проснулся в пять утра и не мог ни слова выговорить, сполз с постели и тут же, как пораженный громом, упал и одна половина тела у него совсем перестала действовать, она позвала прислугу и с ее помощью втащила его на постель и послала за доктором.
С днем рождения, конечно, невезуха, кухарке велели что-нибудь сделать с приготовленной к праздничному столу едой, чтоб не испортилась, и стоило всем погрузиться в задумчивость, как они снова начинали пикироваться резкими, обрывистыми фразами; из кухни долетали то запахи маринада и равномерные удары тесака о доску, то покрикивания: «Ну-ка, налей сюда, ну, наливай же!», на что мать только вращала глазами и шипела: «Боже, будь милостив». Я закрылся в комнате и бессмысленно разглядывал последний подарок деда – красивый позолоченный перочинный ножик английской стали, который он специально для меня выписал из Парижа. Он у меня до сих пор.
Спустя несколько часов к нему вернулась речь, но голос был слабый. Начались две недели агонии. Мать заступила на дежурство у постели больного и оказалась в роли сиделки неотразима – реагировала на каждый его кивок, вслушивалась в каждый вздох, спала всего лишь пару часов в сутки, сносила неудобства со стоическим достоинством, будто еще несколько дней назад не сетовала на блох, царапины и ухабы от Мадрида до самого Бордо; настоящая аллегория Заботы, в стиле Менгса; только под конец я понял, что она задумала. Она старалась никого не впускать в спальню; уже разошелся слух о тяжелой болезни, и люди приходили, чтоб попрощаться с «мастером»; но она выпроваживала их ни с чем. Исключение делала для доньи Леокадии (будто была здесь хозяйкой, а не гостьей), но и то с нескрываемой неохотой. Ну и для старых друзей – Молины и Бругады, а Бругада не такой уж и старый, всего на два года старше меня. Даже когда кухарка, хоть ее никто не просил, сама по доброте душевной хотела принести деду воды, мама вышла из комнаты, закрыла за собой дверь, взяла стакан и вернулась в спальню лишь после того, как кухарка потопала вниз. Но и тогда приоткрыла дверь самую малость, через щелку ничего не было видно, только левую половину большого шкафа. И не проронила ни слова. Дед тоже почти ничего не говорил; иногда что-то невнятно бормотал, но в другой раз случалось разобрать отдельное слово; а когда дыхание ослабевало, Бругада, если в это время был поблизости, поднимал ему голову. Как мне показалось, он бы охотно присутствовал там все время, но мать давала ему понять, что ей такое не по нутру. Не напрямик, а просто не отвечала на его вопросы, выказывая раздражение и отмалчиваясь. Росарио вообще на порог не пускала, потому что «это не место для детей»; со мной мать хотела обойтись так же, но опоздала на несколько лет; и я заходил к деду всякий раз, когда возвращался из города, ведь в конце-то концов сколько можно сидеть в доме больного, где с утра до вечера надо ходить на цыпочках, говорить шепотом и обязательно со страдальческим лицом; две ночи, признаюсь, я не ночевал вообще, но не думаю, чтобы дед был на сей счет против – во всяком случае, я присутствовал в тот вечер, когда у него стала действовать отнявшаяся рука, и тогда среди невнятицы удавалось понять, что он говорит; я стоял рядом с матерью, которая прикладывала ему на лоб холодный компресс, и отчетливо услышал: «Хочу кое-что записать Леокадии и Росарио», а мать моя этаким своим успокаивающим голосом, каким обращалась к нему с первого дня болезни, голосом ангела небесного, этакой прилизанной менговской аллегории Заботы, и говорит: «Папа, вы уже записали, не беспокойтесь»; он открыл глаза, дико взглянул на нее, будто не мог поверить, что ошибается, а она повторила: «Да-да, все уже хорошо». Лишь тогда он сомкнул веки и погрузился в легкий, нервный сон. «Ваше счастье, маменька, что не было доньи Леокадии», – пробормотал я, а она лишь стрельнула на меня своими прищуренными от злости глазами и отвернулась лицом к постели.
Когда он умер, меня не оказалось дома; я возвращался (не важно откуда) во втором часу ночи и еще на пороге понял: произошло то, что висело в воздухе. Донья Леокадия – странно, что именно она, мне это только сейчас пришло в голову – подошла ко мне первая и сказала, хлюпая носом: «Умер, будто заснул… даже доктор… удивился, сколько в нем было силы… говорят, не страдал… – Тут ее голос задрожал. – Но это неправда… неправда». И отошла, как-то так странно, спотыкаясь на ровном полу.
XXII
Письмо пришло в первую неделю апреля, а может, и в начале второй – но я чувствовал: он еще жив. Странные это были денечки. Я ходил по Мадриду в предчувствии огромной свободы, что на могучих крыльях неслась ко мне со стороны Пиренеев, я ждал ее, как когда-то afrancesados ждали Наполеона с его конституцией, как потом чернь ждала El Deseado[90] – долгожданного монарха, возвращающегося из изгнания и оказавшегося задним числом кретином и деспотом, – и как позднее скудеющие ряды его сторонников ждали «ста тысяч сыновей святого Людовика» (трудно придумать более глупое название для французской солдатни); так и я во время своих прогулок обращал лицо в сторону Пиренеев, приблизительно, конечно, и старался почувствовать дуновение, несущее с собой воздух свободы. А в то же самое время занимался всякими необходимыми делами: копия метрики, ее удостоверение королевским нотариусом, согласие на поездку французского генерального консула. Я даже не пользовался экипажем, предпочитая ходить пешком; стояла весна, в природе все прилипало друг к другу от пульсирующих в ней соков, а я на сорок третьем году рождался заново. Для какой жизни? Одному Богу известно. Кто же в день рождения знает свое предназначение?
А потом я вдруг почувствовал – умер. И больше я не застану его в живых, теперь мне не придется заглядывать ему в глаза, терпеть его презрительный взгляд, унылые претензии, застоявшиеся обиды. Наконец-то я мог поехать. Я знал: Гумерсинда на месте и утрясет наши дела. Сразу после его смерти в доме побывали толпы людей. Гаулон, известный своей новой техникой литографии, он, впрочем, позднее помог мне с завещанием, позвал какого-то де Торре, чтоб тот нарисовал старого барсука на ложе смерти; я видел набросок, ничего особенного, но они, безусловно, зашибут деньгу на клише. Какой-то купец, которого он когда-то написал, заплатил за похороны, Молина зарегистрировал смерть в мэрии, правда, ошибся в возрасте, ну да Бог с ним. Гумерсинда выбрала для глухаря место на кладбище картезианцев, рядом со своим отцом; почему бы и нет, не подерутся, я думаю. И занялась остальным: приняла консула, которому надлежало засвидетельствовать смерть и подтвердить личность умершего, купила у францисканцев монашеское облачение, ибо старик хотел, чтоб его похоронили в коричневой рясе, дополнительно оплатила плакальщиц (как раз без этого можно было обойтись) и все время успокаивала эту женщину, что, мол, как только я приеду, все образуется и мы честно поделим наследство. Ну и поделили. Перво-наперво я разыскал пистолеты, я был уверен, что это ценные вещи, высокого класса; отец отличался великолепным вкусом, если речь шла о всяческом оружии, с помощью которого можно застрелить, заколоть или зарезать живое существо, вскрыть ему жилы, раскроить череп, – тут денег он не жалел. Позже занялся серебром, что вполне естественно, хорошо, хоть прислуга позаботилась о нем как полагается и до моего приезда ничего не пропало; только одна тарелочка куда-то запропастилась. Но кто-то вспомнил, что лежит она возле постели, на которой умирал старик. Я пошел наверх – ложе уже было застлано, а посредине лежал маленький увядший букетик, наверно, Росарио положила. Я взял тарелочку и с минуту постоял. Я думал о нем. О том, что он не выносил сентиментальных жестов и никогда не рисовал цветов. Пожелай она сделать ему приятное, ей следовало бы положить цесарку со свернутой шеей, телячью голову с содранной шкурой, что-нибудь из того, что он мог бы написать, – да разве благопристойной глупой девице со своими изощренными нудными штришками понять такое?! Цветочки-василечки. Эх! Взял я тарелочку, спустился на кухню и проследил, чтоб все было как следует упаковано и выслано в Мадрид.