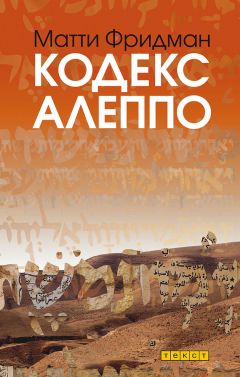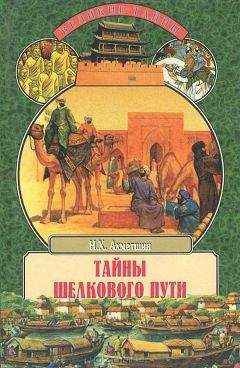Юсуф Зейдан - Азазель
Тяжелы были мысли, охватившие меня при виде этой языческой богини, сидящей рядом на кровати. И впрямь: не богиня ли Октавия — или, быть может, рабыня своих страстей? Может, она хотела при помощи яблока вновь ввергнуть нас обоих в грех, как уже ввергала до этого? И как теперь я смогу выплыть из этого греховного омута? Ведь она хочет, чтобы я провел с ней остаток жизни! Как?! У нее нет глубокой веры, и она не знает, что я верующий человек…
— О чем ты думаешь, любимый?
— О браке. В смысле — о твоем умершем муже… Он что, болел?
— Нет. Он был очень тучен и слаб, к тому же старше меня на двадцать лет. Но болен он не был.
Муж Октавии был язычником. Хозяин-сицилиец всегда привозил ему из своих путешествий ладан, который тот относил в храмы и, счастливый, возвращался домой. Октавия побаивалась за мужа, а он посмеивался над ее страхами. Он и подумать не мог, что храмы в одночасье могут стать опасным местом, и часто повторял какие-то бессмысленные фразы типа: «Наш бог Серапис — владыка мира, мы должны уважать его, невзирая на заносчивость христиан, даже если среди них сам император Феодосий Второй{48}». Как я понял, муж Октавии был недалек и не очень грамотен.
Внезапно Октавия погрустнела, и ее грусть проникла в мое сердце. Волосы упали ей на лицо, но она не замечала этого и была похожа на вянущую розу. Мне следовало бы обнять ее тогда и заверить, что я буду лучше, чем ее муж. «В любом случае, — подумал я, — она не любила своего мужа, но говорит, что любит меня. Быть может, Господь прибрал его, чтобы дать ей другого, лучшего, чем первый».
Я на минуту отвлекся, отдавшись своим мыслям, а она между тем продолжила свой рассказ. Так я узнал, что случилось с ее мужем. Однажды утром он понес ладан в небольшой храм в восточном конце гавани, и там его встретили мои единоверцы. Октавия еле сдерживала рыдания:
— Они убили его, эти разбойники во главе со своими предводителями-монахами. А затем и весь храм разрушили.
— Что ты такое говоришь? Монахи никого не убивают!
— Александрийские — убивают. Во имя своего малопонятного господа и по благословению этого фанатика епископа Феофила и еще большего изверга — его последователя Кирилла.
— Я прошу тебя, Октавия!
— Хорошо, какой толк сейчас в этих словах. Но я вижу, любимый, ты погрустнел. Ты что, им симпатизируешь? Они гонят нас, где бы мы ни были, преследуют своих братьев-иудеев, низвергают на головы людей их святилища и называют нас не иначе как погаными язычниками. Они сеют вокруг беды, как саранча, как напасть, обрушившаяся на мир.
— Я прошу тебя!
— Что тебе до них? Почему покраснели твои глаза и готовы пролиться твои слезы?
— Потому что я…
— Потому что ты — что?
— Я…
— Что?
— Я… христианский монах.
Наступило долгое молчание. Мы оба были в замешательстве. Оправившись от потрясения, Октавия подняла голову и посмотрела на меня. Ее лицо пылало от гнева, а глаза налились плохо сдерживаемым негодованием.
Внезапно она вскочила и, резко указав мне на дверь, безмолвно застыла. В этот миг она была похожа на одну из огромных языческих статуй.
— Убирайся из этого дома, мерзавец! — взревела она, как иерихонская труба. — Пошел вон, подлец!
Лист VII
Утраченный
Сбросив шелковое платье прямо посреди комнаты, я подобрал валявшуюся возле двери рубаху и торбу и кинулся прочь. Одевался я на ходу, спускаясь бегом по лестнице.
Я был опустошен, словно душа покинула меня. С мозаичного панно на меня смотрела грустная собака. Наступив на нее, я направился к выходу, и в этот момент сверху до меня донеслись громкие рыдания Октавии. Я выскочил за дверь, быстрым шагом прошел через сад и оказался у ворот. Ослепительно сиявшее солнце больно резало глаза, а раскаленный песок обжигал голые подошвы.
У ворот сидел сторож, но он даже не посмотрел в мою сторону, хотя его овцы и протрусили за мной несколько шагов. Никогда в жизни я не переживал подобного позора… Я был унижен… Оскорблен… И полностью уничтожен…
Неужели все это и вправду случилось двадцать лет назад. А кажется, будто только что… Ах, бедная Октавия… Ну почему ты не потерпела совсем чуть-чуть? Если бы я мог знать, что готовит мне судьба! Но теперь… Дрожат мои руки… Октавия… Любимая и несчастная… Я не могу больше писать…[6]
Лист VIII
Уединение среди скал
Любое мое воспоминание неотделимо от страдания. Даже если я вспоминаю что-либо приятное, это до крайности болезненно… Как бы мне хотелось сейчас взобраться на стену монастыря и закричать, обратясь к северу, где сейчас обретается Несторий, и к югу, где скрылась Марта… И если я выкрикну из своего сердца всю боль, услышит ли кто-нибудь этот крик? Или я просто умру? А может, я обречен на вечную тоску и забвение?
Что мне делать с темницей, где я томлюсь, скованный тревожными воспоминаниями? Не разорвать ли эти листы и не вылить ли чернила? Не разодрать ли рясу и не уйти ли в пустыню, как сделал Иоанн Креститель? А может, забыть обо всем и продолжить записывать, чтобы докончить начатое, а потом уйти туда, откуда нет возврата?
О Октавия… О непорочная… Я отчетливо помню, что после того, как она так жестоко изгнала меня из своего рая, ноги понесли меня прочь от этого окруженного песком дома к нашей пещере в скалах. Я шел туда, сам не понимая зачем. Быть может, в тот момент я хотел просить прощения у Бога и ждать Его милости в том самом месте, где в первый раз восстал против Него?
Войдя в пещеру, я немедленно забился в самый дальний угол и прижался к влажной стене, надеясь укрыться от все еще звенящего в ушах грохота моего низвержения. Я был просто уничтожен… Простояв несколько минут в полной отстраненности, я вдруг почувствовал, как из глаз потекли слезы раскаяния… Вот здесь, опустившись на колени, сидела Октавия, доставая из корзины различные кушанья. А вот здесь стоял я, завороженный ее грудью. В этом месте я впервые прикоснулся к телу Октавии и на меня излился ее свет… Время замедлило свой бег, и я перестал существовать, окунувшись в глубокий омут мучений.
В пещере стояла тишина, нарушаемая лишь шумом морского прибоя. Я улегся на пол, положив под голову торбу, которая казалась вдвое потяжелевшей. В голове было пусто. Безмыслие причиняло боль и вызывало щемящее ощущение одиночества. Я чувствовал раскаяние, похожее на то, что овладело учениками Христовыми в ночь последней вечери, когда Он сообщил им о Своем скором уходе и встрече с Отцом, который на небесех. Я мечтал уснуть и не проснуться, но мне это не удавалось. Я впадал в забытье и всякий раз просыпался от ужаса. Я страшился самого себя, прожитых дней, своего отшельничества в скалах, того, что в пещеру проникнут хищные звери. Тогда я не знал, что в Александрии не водятся ни гиены, ни бродячие волки, зато есть хищники поопаснее ночных тварей, с рассветом прячущихся в свои логова.
Обратившись лицом к стене, я, стоя на коленях, бормотал искупительные молитвы и жаркие заклинания, уповая, что Господь смилуется и простит меня за все, что сотворили мы с Октавией. Взывая к ее спасению, я почувствовал, как из глаз моих вновь потекли слезы.
Погруженный в молитву, я вдруг подумал, что, быть может, стоит провести в этой пещере остаток дней, полностью посвятив себя молениям и позабыв про медицину и про все то, о чем мечтал и чего желал прежде. Наверное, мне следовало стать святым отшельником. Я начал фантазировать, что вовсе не подобает монаху: «Вот люди узнают, что я обретаюсь в этом месте, и будут приходить ко мне за благословением. Я буду вести примерный и предельно аскетический образ жизни. И днем и ночью я буду поститься, съедая лишь один финик. А когда почувствую жажду, положу в рот финиковую косточку и стану катать ее языком, тем и напьюсь — так мы делали в деревне, когда я был маленьким. Если жажда не пройдет, смочу губы морской водой и вновь укроюсь в своей пещере. Говорят, что александрийцы кроме себя никого не уважают, но меня они станут почитать, когда им откроются моя набожность, усердие и прилежание в служении. На мою пещеру снизойдет небесное благословение, и своими руками я буду творить чудеса. И однажды среди прочих придет уверовавшая Октавия и узрит меня в ореоле святости… Я не стану отягощать себя никакими мирскими благами, а сосредоточусь лишь на восхвалении Господа и созерцании своей праведной жизни, которую очищу настолько, что она станет как зеркало… И тем я очищусь от горестей этого мира».
Мечты приносили успокоение и уменьшали скорбь. Но с наступлением дня меня охватил голод и желания более приземленные. Я достал из торбы финик и медленно съел его. После этого очень захотелось пить, и даже косточка не помогла утолить жажду. Я вышел из пещеры, вертя головой по сторонам, как загнанная лисица. По пути к морю, куда бы я ни бросал взгляд, не было ни души. Здесь вообще не было ничего, кроме тишины и покоя. Я умылся и прополоскал рот: соленая вода еще больше разожгла жажду. Едва передвигая ноги, я вернулся в пещеру и скорчился в углу, как побитая собака, зализывающая глубокие раны, без всякой надежды исцелиться. Я понял, что моим единственным лекарством может быть сон, и закрыл глаза, надеясь забыться… Не сразу, но мне это удалось.