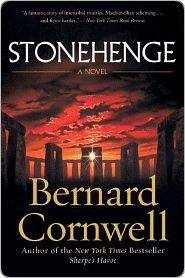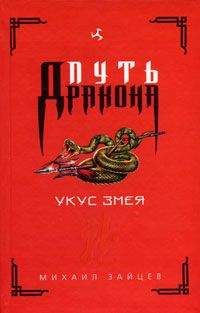Кейт Аткинсон - Боги среди людей
– Я почему интересуюсь: мне нужен человек, который будет вести колонку «Записки натуралиста», – объяснил Билл Моррисон. – Ерунда, черкнуть пару строчек в неделю – даже на хлеб не хватит, не говоря уже о масле, да его и не достать. Был у нас человечек, подписывался «Агрестис». По-латыни. Догадываешься небось, что это означает?
– Селянин, деревенский житель.
– Ну вот видишь.
– А куда он делся? – спросил Тедди, переваривая это неожиданное предложение.
– От старости помер. Из прежних времен селянин был. Упрямый, чертяка, – любовно добавил Билл Моррисон.
Тедди застенчиво огласил свой список сельскохозяйственных заслуг, куда входили нортумберлендские ягнята, кентские яблоки, любовь к долам и горам и водным просторам. А еще радость при виде желудя – чашки с блюдцем, и папоротника, что разжимает свой кулачок, и узорчатого пера ястреба. И необыкновенной прелести рассветного хора в английском лесу, где зацвели колокольчики.
О Франции он умолчал: и о монолитах цвета, и о горячих ломтиках солнца. Все это вряд ли пришлось бы по вкусу тому, кто сражался на Сомме.
Тедди произвел впечатление человека здравого, хотя и был родом с юга.
– Встречаются двое мужиков, – изрек Билл Моррисон, приступая к сыру «стилтон»; Тедди не сразу понял, что это – довольно тяжеловесная преамбула к анекдоту. – Один – родом из Йоркшира, благословенного края. Второй – не йоркширец. Тот, который не йоркширец, и говорит йоркширцу – (на этом месте Тедди расхотелось слушать): – «Повстречал я тут одного йоркширца», а йоркширец и говорит: «А как ты, паря, допер, что он йоркширец?» – (на этом месте Тедди расхотелось жить), – а тот, который не йоркширец, и говорит: «Да по его говору», а йоркширец и говорит: «Не, паря, кабы тот был йоркширец, он бы перво-наперво те похвалился, что йоркширец».
– Такой текст впору поместить в рождественскую хлопушку, – сказала вечером Нэнси, когда Тедди сделал попытку пересказать ей этот анекдот, ввалившись домой навеселе («Ой, как от тебя пивом несет. Но мне даже нравится»). – Правильно я понимаю: у тебя теперь новая работа, в газете?
– Нет, не в газете, – сказал Тедди, а потом добавил: – Да и какая это работа? Так, пара шиллингов в неделю.
– А как же школа? Ты не собираешься увольняться?
Школа, задумался Тедди. Сегодняшнее утро кануло в прошлое. («Так посоветуй, как мне бросить думать».)
– Я позорно сбежал, – признался он.
– Ох, бедненький мой, – рассмеялась Нэнси. – Дальше хуже будет, я знаю, просто нутром чувствую.
Так и вышло. Октябрь принес осенние краски, грибы, каштаны и запоздалое бабье лето. Ноябрь – «те дни, когда Природа-Мать своих детей укроет одеялом», а декабрь – какой же декабрь без остролиста и малиновки.
– Придумай что-нибудь трогательное, – попросил Билл, и Тедди придумал написать, почему у малиновки красная грудка.
Заметки получились довольно примитивными, но Билл Моррисон, который «не гнался за ученостью», остался доволен.
Еще один обед с возлияниями – и Тедди предложили должность «разъездного репортера». Его предшественник погиб на войне. «Ходил с арктическими конвоями», – кратко пояснил Билл, но в подробности вдаваться не стал, добавил только, что и сам долго не протянет, если будет надрываться, вкалывая за двоих.
– Теперь ты доволен? – спросила Нэнси, когда они развешивали принесенные из леса ветки остролиста и омелы.
– Да, – ответил Тедди, подумав, вероятно, чуть дольше, чем того требовал вопрос.
Будь они неладны, эти подснежники.
Некоторые считают, что сорвать этого храброго провозвестника весны, а тем более внести в дом – дурная примета. Возможно, это объясняется тем, что они во множестве произрастают на погостах.
В Лисьей Поляне Сильви всегда набирала букет первых подснежников. И напрасно: слишком уж быстро они сникали и умирали.
Белизна подснежника, которая ассоциируется с непорочностью, всегда создавала вокруг этого скромного цветка ореол невинности (кто нынче помнит девичий ансамбль «Подснежники», популярный в прошлом веке?).
Согласно германскому поверью…
– Господи, – пробормотала себе под нос Нэнси.
– В чем дело?
– Петлю потеряла. Давай дальше.
– …когда Бог создал все сущее, Он отправил снег к цветам, чтобы попросить у них красок. Все цветы ему отказали, кроме доброго подснежника, и в награду снег дозволил ему стать первым цветком Весны.
Великая музыка обладает даром исцеления. Германия теперь не является нашим врагом; похвально, что мы не забываем ее богатое наследие мифов, легенд и сказок, не говоря уже о наследии высокой культуры: музыка Моцарта…
– Моцарт – австриец.
– Ну конечно же, – спохватился Тедди. – Не понимаю, как я мог перепутать. Тогда возьмем Бетховена. Брамса, Баха, Шуберта. Шуберт, надеюсь, немец?
– Нет, тоже австриец.
– А Гайдн? – рискнул Тедди.
– Австриец.
– Сколько же их, а? Тогда… «о наследии высокой культуры: Бах, Брамс, Бетховен…»
Нэнси молча покивала, как учительница, похвалившая троечника за работу над ошибками. Впрочем, не исключено, что она просто считала петли.
– «Бетховен из них…»
– Мы уклоняемся от подснежников. К чему эти экскурсы о немцах?
– В продолжение темы германского поверья, – ответил Тедди.
– А получается, что ты призываешь простить немцев. Или так оно и есть? Ты сам-то простил?
Как сказать? Теоретически, наверное, да, но сердце-вещун говорило «нет». У Тедди не шли из головы мысли о погибших однополчанах. Мертвым, как демонам и ангелам, имя легион.
Для него война закончилась три года назад. Последний год он провел hors de combat[10] в лагере для военнопленных вблизи польской границы. Выбросившись с парашютом из горящего самолета над территорией Германии, он сломал лодыжку и не смог избежать плена. Самолет его, нащупанный лучом прожектора, был сбит зенитным огнем в ходе того жуткого налета на Нюрнберг. Тогда он еще этого не знал, но для бомбардировочной авиации это была самая скверная ночь войны: потери составили девяносто шесть самолетов и пятьсот сорок человек убитыми – больше, чем во всей битве за Британию. Но к тому времени, когда он добрался до дому, все это было уже далеко и не ново; Нюрнберг практически никто не вспоминал.
– Ты проявил большое мужество, – сказала Нэнси все с тем же ободряющим равнодушием (по крайней мере, на слух Тедди), с каким могла бы поздравить его с зачетом по математике.
Теперь война свелась для него к хаосу разрозненных образов, приходивших к нему во сне: залитые лунным светом Альпы, рассекающая воздух лопасть пропеллера, бескровное лицо в воде. «В добрый час». Откуда-то всплывал то удушливый аромат сирени, то милый танцевальный мотивчик. И как завершение каждого сна – неизбежный конец: пламя и мерзкий свист падения. Обычно в ночных кошмарах дело не доходит до ужасающего финала – до удара о землю, но Нэнси приходилось будить мужа: она шикала или успокоительно поглаживала ему руку; потом он долго лежал, уставясь в темноту, и раздумывал, что с ним случится, если когда-нибудь она его не разбудит.
На войне он примирился со смертью, но когда война вдруг закончилась, чудом настал другой день, и еще один, и еще. Часть его существа так и не приспособилась к мысли о будущем.
– «Бетховен…» – упрямо продолжал он.
Вряд ли Бетховен в ответе за эту войну. У Тедди мелькнуло внезапное озарение: они с Урсулой в Королевском Альберт-холле… когда, году в сорок третьем?.. слушают Девятую симфонию Бетховена, «Хоральную», и Урсула почти что вибрирует от эмоциональной мощи музыки. Эта потусторонняя мощь, за пределами мелочной повседневности, передалась и ему. Он встряхнулся, как мокрый пес.
– Все в порядке, милый?
Все нормально. Просто нужно выбить из себя войну, весь этот ужас, эту неизбывную тоску. Но словами он этого сказать не мог.
– Кстати, знаешь что, – продолжала Нэнси, блаженная душа, – по-моему, читатели, которые погружаются в заметки Агрестиса, вовсе не жаждут вспоминать о войне. Скорее, как мне кажется, наоборот.
– Сварить какао? – предложил он, чтобы сменить тему. – Или тебе овалтина?
– Овалтина, пожалуйста.
– Зрение испортишь, – сказал Тедди, наливая в кастрюльку полузамерзшее молоко и ставя на плиту рассекатель пламени.
– Сейчас сделаю перерыв, – ответила Нэнси, аккуратно сматывая разноцветные клубки.
Молоко поднялось как-то неожиданно; Тедди в последний момент успел подхватить кастрюльку, чтобы оно не убежало. Лицо, разгоряченное от огня, напомнило об ожоговых шрамах на шее. Сморщенная, розово-глянцевая кожа наводила на мысль о других шрамах в не столь заметных местах.
– Ну что ж, подполковник Тодд, – сказала Нэнси, – наверное, пора на боковую.
Его воинское звание она всегда произносила с легкой иронией, как будто он строил из себя невесть что. Тедди не понимал, откуда такое отношение, но каждый раз внутренне содрогался.