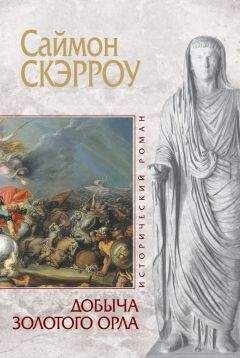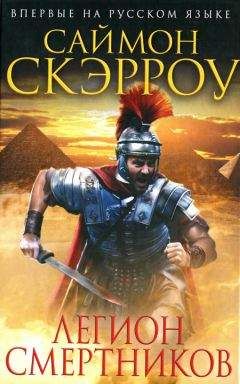Ирина Головкина (Римская-Корсакова) - Лебединая песнь
Елочка угрюмо задумалась. Эта хорошенькая капризная девушка, постоянно занимавшая ее мысли, даже отсутствуя, как будто смеялась над ней и дразнила ее; она как будто говорила, высовывая язык, как маленькая школьница: обошла, перехитрила! Леле без труда и даже против желания давалось все, что обходила Елочку. Если Ася стяжала главное – любовь Олега, талант и женское очарование, то Леля, обладая тоже в полной мере женской грацией, украсила себя всем тем, чего еще хотелось для себя Елочке, подобрала все мелочи: привязанность Аси и Наталии Павловны, всеобщее обожание и, наконец, мученический венец и, как следствие, восторженное уважение Аси! Зависть и ревность опять всколыхнулись в Елочке. Леля принадлежала к аристократической касте по рождению, но борьба политических партий очень мало интересовала ее; прошлое Олега в ее глазах не имело прелести; если она его не выдавала, то только из семейной привязанности и врожденного благородства; идейности в ней не было вовсе; и вот к такой, как Леля, идет подвиг, а такую как она – Елочка – избегает!
«Я столько раз приносила себя в жертву ему – не в воображении, нет: это было органическим состоянием, боевой готовностью всего моего существа, но жертва упорно меня обходила! В Крыму я так и не узнала, где искать Олега, а позднее, когда я спасала его от лап Злобина, это осталось никому неизвестным и было лишено опасности и всякого пафоса. Мне не дано было повторить этих показаний в гепеу, а видит Бог – я бы их повторила! Мученичество за него – мое органическое состояние, неужели же оно меньше того, что может быть названо мученичеством на деле? Зачтется ли оно? Станет ли неотъемлемым богатством возрастающей души, моим моральным багажом, звеном, соединяющим наши судьбы? Никто не даст мне сейчас ответа».
Она сидела, опустив голову, убитая этими мыслями. Детский голосок пролепетал:
– Мама, буоки дай, – это его ребенок говорит и дергает мать, которая безучастна ко всему!
Елочка спохватилась, что так и не накормила Славчика.
– Лежи, лежи, Ася. Я сварю ему кашку. Сейчас, Славчик, Елочка даст тебе кушать. А тебе, Ася, я приготовлю чай: тебе надо поддержать силы. – А про себя опять подумала: «Не мученица и не героиня, а только труженица».
Ася, однако, есть не стала, несмотря на все уговоры: она уверяла, что в горле у нее комок, который мешает глотать.
К двум часам Елочке пришлось уйти на работу. Это было тяжело: необходимое сосредоточие давалось огромным усилием и несколько раз изменяло; хотелось то разрыдаться, то броситься на стену в бессильной злости. Она подавляла все эти порывы. Вид забившегося в угол ребенка со слезой на щек сосал сердце тревогой, в которой были незнакомые ей оттенки.
– Что с вами сегодня, Елизавета Георгиевна? – спросил ее хирург, когда на операции она подала иглодержатель вместо пеана. Выйдя уже вечером из здания больницы и чувствуя страшную усталость, она побежала тем не менее опять к Асе, одолеваемая беспокойством за происходящее там. По дороге получила хлеб и булку.
«По силе моего горя, я бы могла впасть в такую же прострацию, как Ася, – думала она. – Но я никогда не могу позволить себе такую роскошь! Необходимо хоть кому-то не терять головы, и эта неблагодарная роль всегда выпадает мне!» Она как будто досадовала на Асю и вместе с тем торопилась к ней.
Асю она нашла спящей; Славчик лежал рядом с ней на кровати Олега; ребенок сбился на самый край; по тому, как он лежал – не раздетый и готовый упасть, – Елочке стало ясно, что душевное равновесие еще не вернулось к Асе. Она не стала ее будить, надеясь, что сон хоть немного восстановит ее силы, и, загородив Славчика стулом и прикрыв заботливо пледом, выпила в полном одиночестве чай. Ася не оставила ей ни подушек, ни одеяла. Накрывшись пальто, Елочка пристроилась кое-как на диване, но нервы были слишком напряжены, и сон бежал усталых глаз. Что-то стучало ей в уши, она точно слушала заунывно-похоронный звон, а мысли все время возвращались к минуте казни. Пробило двенадцать, потом час… около двух, едва лишь она забылась, заглушённое рыдание ее разбудило. Она поспешно встала и при свете маленькой заслоненной лампы подошла к Асе, без слов, молча, она обняла ее и прижала к груди ее голову.
– Ты здесь? – тихо спросила Ася.
– Да, дорогая! Здесь, с тобой…
– Елочка, я сейчас подумала, какая я была дурная жена! Знаешь, я никогда не заботилась о его белье; раз он сказал: «Я готов сколько угодно ходить в штопаных носках, но носить дырявые не желаю». Мадам это слышала и стала ему штопать сама, а я просиживала за роялем и умилялась на Славчика! А раз… знаешь, раз он сказал: «Отчего ты никогда не приготовишь к столу редьку?» Он ведь так редко высказывал желания, а это желание такое маленькое и скромное, а я не исполнила, я забыла!
– Ася, не мучай себя упреками, ты отдала ему жизнь, ты не побоялась ничего – даже фальшивой фамилии! Ты родила ему чудного мальчика! Он был тебе безмерно благодарен за все, он обожал тебя! Вашему счастью мешали только угрозы гепеу, но не в твоей власти было устранить их. Не упрекай себя!
На это Ася сказала:
– Ты только несколько дней видела человека, которого любила, и все-таки всю жизнь не могла забыть его, а я! Мне без моего Олега пусто, так пусто… Мне так холодно, страшно и неприютно и мне так жаль его… У него было так много горя, а счастлив он был так недолго… Если б ты могла понять эту острую мучительную жалость – она как нож, воткнутый в тело… Если б ты могла…
– Если б только я могла объяснить тебе, – тихо и с горечью перебила Елочка, – как может иногда быть дорог человек, который не дал ни одной минуты счастья, а только мучил, сам того не зная; и что такое любовь, которая ни на что не надеется, ничего не ищет для себя, которая видит, как человек уходит к другой, и все-таки желает ему счастья… если бы ты могла понять такую любовь, ты, может быть, прозрела бы и осознала тяжесть моей потери!
– Что?! – воскликнула Ася, и слезы ее разом высохли. – Что ты сказала? Ты сказала о нем и о себе! Так он, значит, тот раненый, которого считали убитым и которого ты… Зачем ты молчала? Зачем?! Ведь я тебя спрашивала! Я бы ни за что не встала между вами!
Елочка отняла руки, которыми закрыла было лицо.
– Подожди, выслушай сначала! – и в голосе ее неожиданно прозвучала спокойная властность. – Пойми: я хотела видеть его счастливым! К тому же я слишком горда, чтобы насильно тянуть его к себе, рассчитывая на благодарность. А если бы я сделала тебя поверенной своего чувства, это бы навсегда встало между нами. Это возможно только теперь, когда его нет. Пойми, и не надо тревожить все это словами.
И она отчетливо ощутила всю красоту одинокой вершины и все величие отречения. Ей было дано на минуту вознестись выше себя, чтобы бросить оттуда ретроспективный взгляд и произнести оценку случившегося.
Только через несколько минут Ася отозвалась шепотом:
– Помнишь наш первый задушевный разговор у камина в гостиной? Я сказала тебе тогда: «Какая вы большая, глубокая, умная! А я – какая жалкая, ветреная, пустая!» Это же я говорю себе и сейчас. Твои слова дали мне понять очень многое!
И обе подумали: «Слышит ли нас он? Видит ли нас в эту минуту?» Но синий сумрак не открывал потустороннего.
На рассвете Асю вывело из забытья прикосновение руки, и когда она подняла голову, то увидела перед собой Елочку с чашкой какао и сухариками; Елочка была уже в пальто и шляпе.
– Не возражай ничего. При мне сейчас же съешь и выпей – я тороплюсь на работу. Славчика я одела и накормила, собак уже вывела. Ну, ешь же, – и она поставила чашку на столик у постели.
Ася бросилась ей на шею:
– Ты придешь ко мне сегодня же? Придешь? Ты не оставишь меня одну?
Уходя, Елочка подумала: «Вот когда, наконец, я становлюсь незаменимой и единственной! Дорогой ценой досталось мне это место, но теперь никто уже не займет его!» Она поняла также, что Ася несколько овладела собой и, по-видимому, именно их ночной разговор помог ей в этом.
Глава одиннадцатая
У Мики в этот день было свидание с сестрой. За те «уступки», которых сумел добиться от Нины следователь, она получила это свидание не через решетку, а в углу общей комнаты у окна.
Волосы у Нины были обриты, голова перевязана, обтянутые скулы исхудалого лица, черные круги под глазами и тюремный халат изменили ее до неузнаваемости. Она казалась старше лет на двадцать. У Мики захватило дыхание, когда он увидел эту тень прежней Нины.
– Ну, прощай, Мика, – сказала она. – Мне дали семь лет лагеря. Не думаю, чтобы я смогла это вынести. Жизнь мне сохранена только за то, что я подписала бумагу, в которой говорится, будто бы Олег – активный враг советской власти и сам признавался мне, что состоит в контрреволюционной организации. Я, конечно, знаю, что его и без моих показаний все равно бы пристукнули, и все-таки мне тяжело! Уже вторую ночь я вижу во сне княгиню Софью Николаевну. Устоять перед их угрозами и побоями почти невозможно… Леля Нелидова тоже что-то подписала…