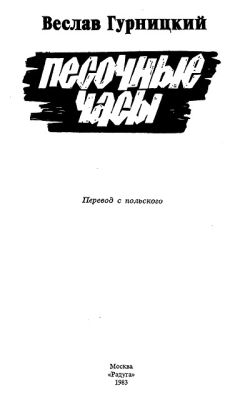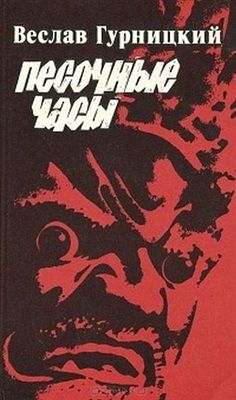Жан-Луи Фетжен - Слезы Брунхильды
— Кажется, мы выехали из леса, мама?
Брунхильда улыбнулась дочери и кивнула. Тут же двое детей распахнули кожаные занавески, и глазам их предстало неожиданное зрелище. Огромные толпы людей стояли по обе стороны дороги, размахивая руками и выкрикивая приветствия с таким жаром, что Брунхильда едва могла поверить, что именно ей они были адресованы. Эти люди, парижане, совсем ее не знали. Даже в Метце, даже в Реймсе ее подданные никогда не проявляли такой восторженности. И даже в Толедо она не видела таких шумных людей!
Наклонившись к окну, она заметила Урсио, ехавшего верхом, рядом с ее повозкой. Он и его люди бросали в толпу монеты — что отчасти объясняло воодушевление людей, — но вид у них при этом был такой надменный, что Брнухильда вновь ощутила раздражение.
— Heh jihr — крикнула она, обращаясь к Урсио. — Fur wos stun die Lidd so froh?[31]
— Se juchsen jihr Kiniginsu, Majestät![32] — отвечал тот. — Монсеньор Зигебер недавно объявил, что собирается перенести свою столицу в Париж, как его предок Хловис. Поэтому они приветствуют вас, моя королева, но также радуются, что город обретет прежнюю роскошь и величие.
Брунхильда поблагодарила Урсио коротким кивком и вновь укрылась в глубине повозки, возле одной из своих придворных дам и маленькой Хлодосинды. В это время старшие дети королевы радостно махали руками толпам, высыпавшим навстречу кортежу у каждого из наиболее примечательных сооружений и памятных мест, вдоль которых он следовал — от амфитеатра древней Лютеции до Восточных терм. Когда процессия повернула на север, к мосту, соединявшему город с островом Ситэ, где располагался королевский дворец, толпа стала еще более густой, бурлящей и восторженной. Фасады всех домов были украшены, как и сторожевые башни, стоявшие у въезда на мост. Именно там их ждал Зигебер в окружении своих личных стражников и знати, приехавшей из Метца.
Брунхильда закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула, чтобы справиться с неистовым сердцебиением. Отчего она чувствует себя такой чужой в этом месте? Разве не настал момент ее триумфа, о котором она так давно мечтала? Меньше чем за полгода, благодаря поддержке рейнских племен, вновь явившихся по зову своего суверена, Зигебер обуздал Гонтрана и оттеснил Хильперика к самым пределам его грязного убогого королевства, захватил Бове, Эвре и даже Руан, его столицу. Кроме этого, армия Готико разбила войско Теодебера, и ее возвращение из Аквитании превратилось в триумфальное шествие. Никогда еще королевство Остразия не было таким обширным и таким могущественным. Откуда же эта давящая тяжесть в груди?..
Брунхильда вышла из повозки последней, гораздо позже детей, которые с радостными криками спрыгнули на землю, забыв все уроки хороших манер, преподанные им матерью. При появлении Брунхильды парижане завопили вдвое громче, и последние несколько шагов, отделявших ее от Зигебера, королева прошла среди оглушительного шума, охваченная еще более сильным волнением, чем в день их свадьбы. Король осторожно опустил на землю маленького Хильдебера, которого он держал на руках, и долго смотрел на жену, прежде чем обнять ее. Зигебер ничего не сказал, но его глаза, его лицо, потемневшее от загара за эти несколько месяцев, — всё говорило яснее слов, что он сражался ради нее, из-за ее убитой сестры, и что на этот раз он решил идти до конца.
Чувствуя, как сжимается горло и к глазам подступают слезы, Брунхильда едва могла приветствовать своих приближенных. Все были здесь, кроме Готико и Зигульфа, еще не вернувшихся из Аквитании; и при виде стольких знакомых лиц, веселых и торжествующих, она вновь почувствовала, как сердце заколотилось от волнения. Присутствующие, включая самых суровых мужчин, ощутили все величие этого момента. Лу Авквитанский с пылом сжал руки Брунхильды в своих руках — в любое другое время этот жест был бы практически равносилен оскорблению.
Когда крики толпы, наконец, утихли и стало возможно расслышать друг друга, Зигебер первым делом представил королеве старого человека, одетого как простой монах, но носившего епископский крест и орарь[33], что говорило о его сане.
— Монсеньор Германий оказал нам честь, согласившись встретить тебя лично, несмотря на плохое самочувствие…
Брунхильда быстро переглянулась с мужем и после некоторого колебания опустилась на колени перед старым епископом Парижским, осенившим ее крестом. Она ждала этой встречи с того момента, как Зигебер попросил ее приехать в древнюю столицу Хловиса Великого. Однако Брунхильда полагала, что епископ, не скрывавший своей враждебности к королевской чете со времен церковного совета, состоявшегося в Париже два года назад, встретит ее в своем соборе, а не будет стоять здесь, рядом с королем. Вид у него и вправду был неважный. Когда Брунхильда поднялась и взглянула епископу в лицо, она отметила свинцово-серый оттенок кожи, пожелтевшие белки глаз и ввалившиеся щеки. Германий был не просто стар — он явно был болен[34].
К величайшему удивлению и замешательству Брунхильды, епископ Парижский также опустился на одно колено перед ней. Это выражение покорности тронуло ее и немного рассеяло то недоверие, которое она питала к своему недавнему противнику.
— Сиятельнейшая королева, — произнес Германий тихим, надтреснутым голосом, — у меня письмо для вас, и я прошу его принять.
Один из сопровождавших епископа священников приблизился и протянул ему свиток пергамента, скрепленный восковой печатью.
— Прочтите его, как только сможете, во имя Господа нашего.
— Я прочту. — С этими словами Брунхильда протянула руку, чтобы помочь Германию подняться.
Однако ее помощи оказалось недостаточно, и двум священникам пришлось подхватить епископа под мышки и в буквальном смысле поставить на ноги. Предыдущее усилие, казалось, полностью истощило Германия, и он смог поблагодарить помощников лишь слабым кивком Король и королева молча ждали, пока он сядет в крытые носилки и удалится. Затем, окруженные детьми и остразийской знатью, они по мосту направились на остров Ситэ.
* * *На следующее утро Брунхильду разбудили крики лодочников, пришвартовавшихся чуть ли не под самыми окнами королевской спальни, выходившими в сад на западном берегу острова. Едва открыв глаза, она потянулась к мужу, но тут услышала, как Зигебер приглушенным голосом прогоняет шумную компанию, и ухмыльнулась, увидев, что он стоит у окна абсолютно голый.
Было тепло, и во сне Брунхильда наполовину сбросила простыню. Первым ее побуждением было снова укрыться, но в этот момент Зигебер повернулся, и ей захотелось, чтобы он увидел ее такой, будто бы все еще спящей, и чтобы возжелал ее так же сильно, как вчера, после долгой разлуки. Она слегка пошевельнулась и простонала, словно утренний свет мешал ей понежиться в постели. Сползшая простыня, ее союзница, почти ничего не закрывала. Брунхильда услышала шаги мужа, молча приближавшегося, и, затаив дыхание, представила, как он смотрит на ее бедра и ягодицы, на изящные очертания ног…. Когда Брунхильда почувствовала, как матрас прогибается под тяжестью тела мужа, она резко перевернулась и обхватила его за шею, опрокидывая на себя. Зигебер слегка вскрикнул от неожиданности, потом рассмеялся, но сейчас Брунхильде нужна была не просто забавная игра. Она всем телом подалась к мужу и с жадностью поцеловала в его губы, потом нежно погладила по щеке.
— Тебе нужно было приехать раньше, — прошептала она. — Мне так тебя не хватало…
— Не говори ничего…
Длинные белокурые волосы королевы ореолом рассыпались вокруг ее головы, золотясь в лучах утреннего солнца, сами подобные лучам. Мраморно-белая кожа придавала ей вид нимфы или сказочной феи, чья плоть соткана из света.
Они предались любви с лихорадочной, почти безумной страстью, которой никогда не испытывали прежде — возможно, в первый раз безраздельно отдаваясь друг другу. Когда Брунхильда, наконец, расслабленно вытянулась, повернувшись на бок, слезы потоком хлынули из ее глаз; но это были слезы облегчения. Она была королевой. Париж принадлежал ей. Ее муж и дети были рядом. Теперь она даже удивлялась, отчего раньше чувствовала такую тяжесть на душе.
Брунхильда окинула взглядом комнату: стены были выбелены известкой и украшены гобеленами, пол устилали сухие травы и цветы — и вдруг заметила на столе пергаментный свиток — письмо епископа Германия, о котором совсем забыла накануне. Письмо пролежало там все утро — пока Зигебер не ушел, призываемый королевскими обязанностями. И лишь после того, как придворные дамы одели и причесали ее, новая королева Парижская взяла свиток и сломала восковую печать. Письмо, написанное по-латыни, начиналась с длинной литании, в которой восхваления в адрес Бога перемешивались с формулировками придворной вежливости. Затем Германий переходил к сути дела