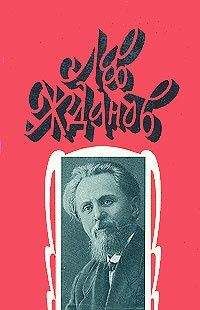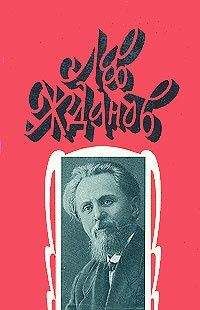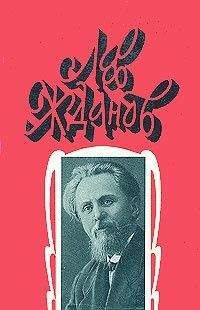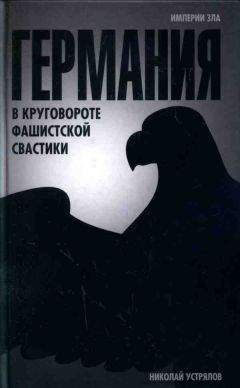Роман Литван - Мой друг Пеликан
Хрипатый, почувствовав свободу, вскочил с земли и за неимением другой цели схватился с Володей. В это время Старик, тщедушные Савранский и Киря вместе с Брыковским отбивались, окруженные превосходящим числом врагов. С ними оказался Райнхард, темпераментно подпрыгивающий, визгливо восклицающий не по-русски и стремящийся прорваться на выручку Володе, которого более сильный противник забил, загнал в защиту.
Их было больше, и они были сильнее. Старик работал кулаками, не позволяя расчленить свою маленькую армию, всматривался, насколько позволяли обстоятельства, — но нет, институтских не было видно, кругом всё были чужие лица. Главное, он понимал, не дать завалить себя. И желательно Володю и Сухарева, и Далматова притянуть в общую группу, либо переместиться ближе к ним, и таким способом слиться, чтобы образовалось единое ядро.
Поэтому он не хотел отпустить Райнхарда.
Но темпераментный немец прыгал как кузнечик, несмотря на габариты, и наконец выпрыгнул в самый круг врагов, и там они окружили его, связав его движения.
Всех институтских разбили на отдельные островки, терпящие поражение. Один Далматов, кажется, поднялся, смахнул с себя кучу-малу; но ему не давали вырваться.
Хрипатый, словно в спортивном зале на тренировке, методично бил кулаками по Володе как по мешку с песком.
Володя делал попытки разогнуться, ответить ударом — но всякий раз был отброшен в защиту.
Бесследное исчезновение Малинина вызывало тревогу.
Он боялся удара булыжником, понимая, что полностью беззащитен, вяземовские могут свалить его на землю, забить ногами, он во власти у них. Он ничего не видел, не знал, где остальные, кто где, — ничего не соображал. Только защищался, закрывал голову, лицо, живот, и сколько над ним врагов — ничего не знал.
Как вдруг какие-то крики раздались рядом. Знакомый голос. Он еще стоял в полусогнутом положении, и не сразу заметил, что больше не чувствует ударов.
— Ну-ка, покажи. Руки, ноги целы? — Кто-то бережно разнимал его ладони, заглядывая в лицо. Володя крикнул громко из сердца, засмеялся от внезапного радостного чувства — Пеликан! — Ну, ничего, ничего… Ничего, Цес, — потеплевшим взволнованным голосом повторял, будто отстраняя неприятности: — Ничего, железно… — И, резко повернувшись, ткнул пальцем в хрипатого: — Вы нам отдайте человека — живого или мертвого!.. Лично ты отвечаешь!..
Теперь вяземовские сбились в кучу, окруженные превосходящим количеством институтских.
— Он убежал, — сказал хрипатый.
— Куда?
— Туда. — Хрипатый махнул рукой неопределенно, в сторону шоссе.
— Врешь, собака.
— Гадом быть! Он побежал, и хрен с ним… Мы тебя ждали.
— Мы будем биться. Вдвоем с тобой, — сказал Пеликан. — Ты зверовал над моим другом. Никто не лезьте.
— Пелик… Пелик… — Модест и Циркович пробовали вмешаться. Далматов выскочил, требуя хрипатого себе.
— Нет! Не лезьте никто… — Пеликан вдруг обратился к Володе: — Цес, я его не тронул! Я не тронул его, слышишь? Цес!..
— Да. — Володя едва не расплакался от счастья.
На берегу пруда развели огромный костер, уселись, не смешиваясь между собой, обе группы, одинаково умиротворенные, оттого что большая война закончилась. И те и те чувствовали облегчение. Пеликан и хрипатый сняли верхнюю одежду, остались в рубашках. Всполохи пламени высоко улетали в небо, ярко освещенная поляна и могучие, как гладиаторы, бойцы на ней приводили на память картины древнего мира, что-то варварское, доисторическое и непонятно почему завораживающе прекрасное. Пламя металось ярко, еще ярче. Удары обнаженных кулаков. Кровь полилась. Крики поддержки. Разочарования. Пеликан побеждает. Но бой — непредсказуемый. Случай, удача, малейшая оплошность.
Но вот хрипатый откачнулся назад и упал. Встал, опять упал.
Всё.
Пеликан — победитель. «Ура-а!» — кричат институтские. Обида, унижение вяземовских могут бросить их в рискованную схватку.
— Ты правду сказал, что наш человек живой и целый? — спрашивает Пеликан.
— Я сказал… сказал, что он не нужен нам. — Хрипатый сидит на земле, утирая кровь и зачем-то крутя одно, а потом другое ухо. — Тебя ждали, понял? А теперь, раз поскольку такое дело, — честь честью — деньги должны твои быть. Может, половина? — унылым тоном спрашивает он. — Половина вам, и половина нам? Деньги…
— Да катись ты с твоими деньгами! — Пеликан добавил камчатско-охотничье выражение — под веселый хохот недавних врагов, покоренных замысловатым лексиконом, или неразумной щедростью, — оделся, и вся компания двинула к институту, оставив вяземовских у догорающего костра. — Ну, на этом конец. Больше драк не будет — никаких больше механиков, технологов, никаких идиотов Гордуладзе… Хотя предупреждаю, братцы. Вяземовские не полезут, но по одному попадаться не советую — учинят озорство. Натуре не прикажешь…
26
Через несколько дней поздним вечером в комнате двадцать два горела настольная лампа под зеленым абажуром.
Из приемника лилась негромкая джазовая мелодия — фортепьяно, контрабас и ударник: приветливые, благодушные ритмы, бодрящие, но не ранящие слух, для человека, занятого своими мыслями, совсем его не тревожащие.
Иногда звучало короткое сообщение на английском, и опять продолжалась музыка. Передавала радиостанция из Танжера на средних волнах.
— Почему наше радио круглые сутки долбит идейные, воспитательные тексты, а музыки совсем чуть-чуть? А у них — наоборот? круглосуточно музыка?
— Позвони спроси у Хрущева, — усмехнулся Пеликан. — А что, Пика (сокращенно от Пикапаре), идею подал. Давай письмо Хрущеву напишем.
— С Цесаркой пиши. Вы — писатели, — не без ехидства произнес Сорокин Славка.
— Тс-с… — Пеликан показал на Володю, который сидел тут же, за обеденным столом, и водил пером по бумаге, перекладывая листки, заглядывая в предыдущие и снова торопливо устремляя руку с пером вперед, строчка за строчкой. Он не обращал на них внимания, не замечал их. Пеликан и Сорокин пили пустой чай и курили. Модест спал на своей кровати, накрывшись с головой: завтра он должен был рано вставать и ехать на работу. Пеликан поднял торжественно палец кверху. — Он — творит; имен не называем, чтобы не прервать вдохновение. Тебе, Пика, не дано понять.
— Где нам, серым? То-то вы сегодня из Москвы привезли по пачке вашей пачкотни. Опять не взяли?
— Ну, что тебе сказать? — нахмурился Пеликан. — Откуда знаешь ты?
— Все видим, все знаем. Зря время тратите: жалко глядеть на вас.
— Болван!
— Зато сессию сдам железно и на третий курс перейду… Третий курс — считай, дело в шляпе. Поглядим через пару лет, кто из нас болван. Как бы тебе пожалеть не пришлось.
— Я что? Я и на рыбный промысел наймусь. А Цесарка — он настоящий писатель.
Сорокин хмыкнул презрительно.
— Лягу я лучше спать, — сказал он. — А помнишь, как вломились в умывальник, а Голиков влез в угол, присел, как будто в штаны наложил, руками обхватил голову… Я думал, ты его укокошишь… Ну, если хотел перед Вовкой порисоваться, уйдешь, но хотя бы Цирковичу свободу дашь…
— Да перестань!.. Тошно глядеть было.
— А когда дверь открывал — чего кричал?
— Так то до того было.
— Не понимаю я тебя.
— Не дано тебе, Пика. Нет.
— Славка — он четко знает, — произнес вдруг Володя, — что хорошо, а что плохо. Для него лично. Леондревы, они все четко знают…
— Ну, Леондрев — он твой друг.
— Отдаю его тебе полностью.
— Ходит сюда с Голиковым…
— Ходили — теперь уж Голиков не придет. Папочка у Леондрева то ли партийная, то ли профсоюзная шишка. Воспитание!.. он на сто лет вперед спланировал. И как с тоски не захиреть. Повторять чужой путь… миллион раз уже пройдено. Миллионы людей прошли — и ты вслед за ними. Смерть!.. Хуже смерти!.. Принципы вас не интересуют — один принцип у вас, только один. Выгода!.. Стало быть, это мы беспринципные, у нас много принципов. А вы принципиальные!..
— Да ну тебя. Псих. Оба вы психи, — рассмеялся Сорокин. — Спать лягу — утро вечера мудренее.
Позднее Пеликан спросил у Володи:
— А может, правда — Леондрев с Голиковым одно целое?.. Пика, может, опять идею выдал.
— Нет, не замечено, — сказал Володя.
— Ходили к нам вместе…
— Ты знаешь, все может быть. Я однажды его с Надарием видел. Человек он расчетливый и скрытный. У него отец — председатель областного ЦК профсоюза работников культуры. Сейчас вспомнил — в Минводах. Однажды с ребятами поделился; четкий план у парня. Пойдет после института на цекóвское предприятие, потом — в ЦК: папа поможет. А потом… возглавит самое крупное издательство страны. Он — продажный, может быть, через него шли указания Надарию. Так они несовместны ни за какие пенки, но — сам понимаешь — для законопослушного червячочка приказ сверху закон!..