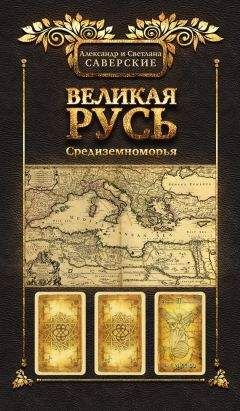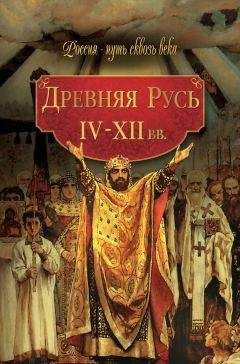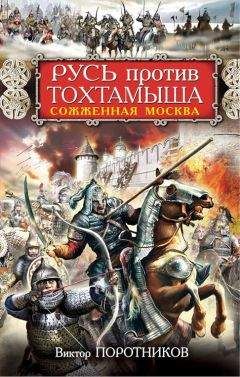Виктор Сергеев - Унтовое войско
За речкой надрывно кричал коростель, словно бы уговаривал женщин помолчать и спать ложиться, не мешать ему трещать по всему Халютскому лугу. Густо пахло дурман-травой, кружилась голова от чего-то. Хоть и сморило Бутыд от жаркого солнца, а все же краешек души задевало что-то волнующее и радостное. Это все тот казак из Нарин-Кундуя… Из себя рябоватый. Да что в красоте лица? Было в нем что-то такое, из-за чего не выходил он у нее из ума. Очень уж он и с конем ловок, и всем ловок. Как поглядишь на такого, так сердце и замрет. Хоть на колчане и ножнах у него кожа потерта и облезла, и седло езженое, и чекмень изношенный, и унты… А все подогнано, пристегнуто. Поехал — и не звякнет и не брякнет ничего ни на нем, ни на лошади. И то, что в седле сидел небрежно, и то, что шагом никогда не ездил, пока был при ней, и то, что глаза у него светлые, пронзительные, и то, что слова настойчивые, прилипчивые — все это ей нравилось в Очирке Цыцикове.
Ведь и не было у нее с ним ничего… Сводила к лес ному ручью, где в ледяном зеркале на волнах ломалось и кривилось его веселое лицо. Он пошутил тогда с ней наобещал диких жеребят… «Как зацветет ковыль — жди». Он ускакал и унес с собой свои шутки и обещания. Не приехал… Ну и что? Ну и не надо! Он ей ничем не обязан, и она ему… Только тревожно и радостно ей. Живет где-то на юге Очирка, может быть, помнит о ней, о Бутыд, может быть, приедет еще в Кижу, наговорит шуток, глупостей, наобещает чего-нибудь… каких-то жеребят.
Она уснула, и сон ее был глубоким и спокойным. Во сне они видела скачущих жеребят — соловых, гнедых, вороных… Таких стройненьких, гибких, подвижных! Где-то стучали молотками сенокосчики. Бутыд все высматривала среди жеребят Очирку: «Где же он? Почему он сам не приехал? Жеребят послал, а сам не захотел».
Ей во сне стало грустно.
Косари поднялись до света, отправились косить. Подошло время утренней еды, а они не подумали идти к шалашу, стараются обогнать друг друга. Ошир нервничает — у него коса не чисто режет. У остальных срез высоковат.
Солнце не докатилось до обеда, как в Халюту прискакали конные из конторы главного тайши и с ними шуленга. Шуленга как спрыгнул с коня, так сразу подскочил к Оширу, затыкал ему в лицо кнутом:
— Это ты, паршивец, слушал христианина Буду? Это он тебя научил, как портить тайшинские покосы? Мы тебя по-своему обучим, как косить семо для их благородия! А ну, взять его!
К Оширу подбежали тайшинские служки, сорвали рубаху, завалили парня на покос, повернули вниз лицом.
— Не виноват я, — оправдывался Ошир. — Буда-абагай делу учил меня… только ночью кто-то косу мою затупил.
— А ну, прокатите его по лугу! — весело закричал шуленга.
Родственники попытались вступиться за косаря, просили, умоляли… Обещали, что Халюта будет убрана до последнего кустика травы. Но куда там… Шуленга и слушать не захотел.
— Берись! — последовал его приказ.
Один из приехавших с шуленгой сел на спину Ошира, а двое самых здоровых, схватив косаря за ноги, поволокли его по колючей стерне покоса.
Затихло все на лугу, только слышно тяжелое сопение тайшинских слуг.
Косарь какое-то время крепился, норовил, вытягивая шею, повыше поднять голову. Но скоро силы оставили его, и вопли огласили окрестности Халюты.
Умаявшись, служки бросили искровавленного Ошира в канаву.
Бабам и девкам смотреть жутко. По кустам да шалашам разбежались., А ну, как шуленге покажется, что сено в копнах пересушено…
На шум прибежал Буда Онохоев. Он к тайшинским людишкам не приписан. Бумбе-тайше не подчинен. Думал, что облагоразумит шуленгу, пристыдит его, погрозит пожаловаться русскому начальству. А шуленга как приметил Онохоева, в довольной улыбке расплылся:
— Вот уж истинно: две бычьих головы в одном котле не сваришь. Тебя-то нам и надо, старый пороз! По велению главного тайши, его благородия Бумбы Юмсараева, взять ослушника и отвезти в Хоринск!
На старика набросили ременные путы, связали по рукам и ногам, надели колодки и взвалили на верховую лошадь.
Шуленга погрозил косарям:
— Не вздумайте разболтать кому про этого Онохоева. Видеть его не видели и знать не знаете! А то смотрите…
Глава восьмая
Джигмита Ранжурова, Санжи Чагдурова и Очирку Цыцикова, избранных для похода на Амур, спешно снарядили в штаб городового полка, куда они прибыли благополучно на казенной подводе. Атаман полка осмотрел казаков и остался ими доволен.
«Сойдут в самый раз», — решил он и распорядился выдать старшему команды пятидесятнику Ранжурову и полковой кассы денег да из полкового амбара сухарей и мясной муки.
— Деньги, — сказал Куканов, — снесешь в лавку купца Ситникова. Там тебе выдадут водки, бус, пуговиц медных, зеркалец всяких, колечек да сукна синего и голубого куска два, да сукна «араго», да еще подкладочного холста. Подарки сии гольдам да гилякам презентуешь. Для племенных вождей хорошо бы серебряного прозументу. Аршин десять… Есть ли среди вас пьющие?
— Никак нет, ваше благородие!
— Ну и ладно. Вино вашему промыслу не товарищ. С гольдами либо гиляками ведите себя уважительно. Они в тех местах живут, и всякая тропка, всякая речка им родовая ведома. Помните, что верная указка не кулак, а ласка.
Казаков снарядили новыми капсульными ружьями. Наказали-: без нужды ружья в дело не пускать.
От Верхнеудинска до Нерчинска бурятские казаки ехали на лошадях. В Нерчинске по распоряжению сотника городового полка Гантимурова казаков посадили на катер, и они на нем спустились вниз по Шилке до Усть-Стрелки. Поселковый тамошний атаман ждал их вместе с гольдом-проводником. Гольд оказался низкорослым, кривоногим, в соломенной конусообразной шапке. С ним была легкая лодка-оморочка. Казаки дивились на его оружие — палка с ножом на конце, кожаный щит, деревянные латы. В лодке лежали лук со стрелами и копье.
Глаза гольда слезились, лицо в морщинах. Звали его Оро. Он поклонился казакам, прижимая кулаки к сердцу, и сразу же спросил:
— Табак ю?
Очирка отсыпал ему в медную трубку щепотку табаку, и тот весело заулыбался.
— На Мангму[21] скоро едем?
— Как звезды высыпят на небо, так и в путь.
Казаков разбудили до рассвета. С атаманом пришел зауряд-сотник, плававший не раз по Амуру.
— Где скалы, того берега и держитесь, — напутствовал он. — Так безопаснее. Ладьте в тень забираться.
— Счастливо плыть! — произнес атаман. — Который тут из вас рябой?
— Я, — отозвался Цыциков, удивляясь, зачем он понадобился.
— Не хотел уж упреждать, да черта ли… Можа, и не встретимся боле. Бумага на тебя пришла…
— И что? — насторожился Ранжуров.
— Манджурца убил он, заграничного.
— Убил он хунхуза. Разбойника и вора.
— Наше дело сторона. А только в Урге шумят, жалуются. А выдать тебя, рябой… на великую беду, судить — засудят. И затолкают на Кару. Разгильдеев там свирепствует. Я скажу исправнику, что вас уже не застала эта бумага… С богом, рябой, ежели крещеный! Оспинка — божья щербинка, не обижайся.
— Кто ту бумагу привез? — спросил Ранжуров.
— Ваши же, пограничные. Ноне они бражничают у кабатчика.
— Ну, еще раз с богом! Плывите бережливо. Ваше дело такое, ребяты… Пришли безвестно и ушли безвестно. Поопаситесь. Тутотко один англичанка ладил вроде вас спуститься на Амур. Плот ему сколачивала острожная партия. Да, видать, бережливость не соблюдал, не поопасся. А скоренько поручик Ваганов с солдатами наехал от самого Николая Николаича Муравьева. За рыжую бороду того англичанку да в карету…
Ранжуров вспомнил:
«A-а… тот самый Кларк и есть. Выходит, что на Амуре мы с ним уже не повидаемся».
С темного проулка, как снег на голову, пала бурятская песня:
Застоялся мой ретивой,
Ноют мускулы мои.
Конь мой рыжий застоялся,
Не звенит моя стрела.
— Никак братские? — удивился поселковый атаман. — О чем это они?
Ранжуров усмехнулся про себя в темноте:
— Поют о том, что копи застоялись…
Пьяные голоса гулко ухали в узкой улочке:
Застоялся мой саврасый
Без свинца, кольчуги звона.
Вороной мой застоялся,
Не звенит моя стрела.
И вдруг сорвались голоса, заорали, запели вовсю, затряслась темная тихая улица, зашаталось небо над уснувшими домами:
Серебро «можо»[22] — узда,
Сплошь обшитая сукном!
К ограждениям Москвы
Мы приписанный народ!
— Давай-кося, паря, к реке трогай, — поторопил атаман. — Могут рябого опознать. Да и плыть время. Небо-то вызвездило. Самый раз… На стремнину как выскочите, и дуй — не стой.
— Пьяные поют, что слепые собаки лают, — зло отозвался Цыциков.