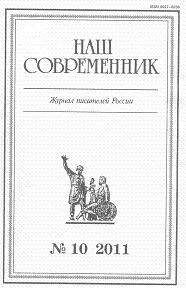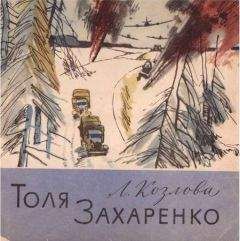Чалдоны - Горбунов Анатолий Константинович
—
Эй, госпожа в стеклянном сарафане, — обратился он к Гутьке, — готовься к генеральному докладу. Стой, говорю тебе, стой…
—
Гринь, а Гринь? Почто грабли-то распускаешь… Посажу ведь… — заскулила невидимая Гутька.
Загремело опрокинутое ведро, сильно хлопнула дверь пастушьей избушки, и всё смолкло. Лишь доносились из темноты тяжелые вздохи больных коров и шелестел крыльями над озером равнодушный к человеческим драмам зоркий лунь.
—
Чужая жизнь — потемки, — мудро изрек Сидор. — Каждому — свое. — Напившись чаю, он разлегся на стеганке и, довольный, щурясь на огонь, беззвучно шевелил губами, словно рассказывал костру о чем-то сокровенном, непонятном другим.
Я спросил:
—
Отчего, дедушка, старинные песни такие тоскливые, вроде при царе-то вольготно жили?
—
Дак оглянись-тко, родимый, впопятную, сколько за Расеей страданьюшек! Война на войне. — Посуровел лицом. — Народ сам себе заступник. Кто ему путь переступал — кровь лилась. Просторная у народа душа, обмана и духоты не терпит.
—
А в грязи живем? — усмехнулся я.
—
Сами виноваты. Уважать себя перестали, вот и летят со всех сторон плевки, — просто объяснил Сидор.
В ночном лесу встрепенулся щегол: то выведет озорную трель, то перейдет на разудалый свист, то защелкает рассыпчато — вроде кто из мешка сухой горох на деревянный пол горстями бросает.
—
Щеглуха разошелся! — восхищенно прошептал старик. — Воевал ето я на Дальнем Востоке. Спроси: за чё? За етого щеглуху воевал. Разе позволит сердце, чтобы поганый агрессор мирные поля жег, нашего щеглуху в клетке держал, Русскую землю себе присваивал? Самурай — враг коварный, хуже германца…
В кустах затараторил дрозд. Сидор осердился:
—
Встрял, трещотка… — отодвинулся подальше от жаркого костра. — Сидит самурай в анбразуре и тарахтит из пулемета, как етот дрозд. В открытую сунься — укокошит. Солдаты психуют: «Гитлеру лен сломали — чё, ету заморскую погину не вышибем?» И за гранаты. Понятно, торопятся домой. Дома невесты, бабы с ребятишками ждут. Командир взвода Спиридон Унжаков ругается: «Отставить! Вам чё, робята, жить надоело? Сичас авиацию вызову…» Берег Спиридон своих солдатов, а себя не уберег. Да… Разе один самурай зарится на нашу Расею? Не смотри, чё я деревенский, историю на «ять» знаю. Ханбатыя трепали? Трепали, — загибает пальцы. — Наполеошку отхряпали? Отхряпати. Фашисту салазки загнули. Во! Простодушна, доверчива наша Расея. Все кому не лень в ее карман лезут, особливо сичас, при етой проклятущей демократии. Почему происходят такие безобразия? Дак правят-то нами нерусские. Торопятся, пока правят, растаскивают Расею. Глаз да глаз надо за етой нелюдью, иначе оставят нас, в чем мама родила. Вспомни Катеринушку… преподобную. Сунула Аляску мериканцам. Не сунула бы, сичас бы сопели мериканцы в две норки и не издевались бы над народами.
Старик легонько ударил себя в грудь костяшками согнутых пальцев.
—
Скоро в могилу ложиться, но погляжу на жисть — ноет, болит тута. Однако неправильно живут нонче молодые. Мы за Отечество гибли, они от водки и табака мрут. Молодых лишила зренья перестройка, обманула и опакостила. Взять, к примеру, племяша мово Агафошку, которому я на свою пенсию крышу прошлой осенью залатал. Оставили ему родители в наследство избу-пятистенку, хозяйство, огород. Агафошка быстренько добро по ветру пустил. Огород не садит. На общее поле не заманишь. Наотрез от земли отказался. За меня, дескать, тятя с мамкой на двести лет вперед напахали, пусть другие их рекорд побьют, а там посмотрим. Досмотрит — выхватят землю из рук новые русские. Охрядь! Налакается зелья, приползет в сельпо на четвереньках и колотит кулаком о прилавок: «Где тушенка? Где сгущенка?» А у самого нос травой зарос. Седня, засветло еще, приезжал Агафошка с мафией на шестиколесной машине. Карасей неводили. Бороздили, бороздили бреднем — пусто. Мафия осерчала. «Ты чё, Агафон, мозги пудришь? Где обещанная рыба? Хочешь, тя, балаболку, коровьими лепехами накормим?» Племяш доказывает: «Вода шибко светлая, карась видит бредень и плашмя на дно ложится». Так порожняком и утортали. Нет, неправильно живут молодые. Хоть бы учились, а то… — старик отрешенно махнул рукой, — за водкой наперегонки бегают, да хлебушком в друг друга кидаются. Одним словом — демократия! Да… Был я, Натолий, намедни в городе. Насмотрелся. Фрукты на базаре по пятьдесят рубликов за кило. Сдуреть можно. Продавцы — проноженные, соображают: хлебушко-то тижало в поле достается. Легче в магазине купить, чем сеять. Фрукты — живая деньга. Совесть надоть иметь. Если хлебушко по дешевке ешь, то и фрукты подешевле продавай. Подумаешь, груши-яблоки, раньше в Сибири в глаза их не видели и не умирали. Эти самые продавцы нас, русских, из республик гонят, а сами сюда грабить едут. Кто виноват? Мы сами виноваты. Гордость надоть иметь, тогда и уважать будут. Эх! Сбросить бы мне годков полсотни да грамотешку, навел бы я в Расее порядок, заткнул бы за пояс етого мизгиря Горбачева или культяпу Ельцина. Чо-то не так у нас в государстве, Натолий. Не по-русски как-то все делается, не по-людски. Живем как в сказке: чем дальше, тем страшнее…
Сидор щурился от огненной пляски костра, рассуждал о житье- бытье и усмехался.
А ночь таяла. На востоке небо заметно порозовело. По лесной опушке пробежал ветерок и спрятался в перепутанных травах. Сквозь робкий шелест дроглых осин просвечивалось еле уловимое дыхание умирающего озера. Я грелся у костра, взволнованно слушал старого человека и спрашивал себя: «Правильно ли я живу?» И не находил ответа. В чем-то глубоко виноватым чувствовал я себя перед стариком.
—
Чё, родимый, крутисся? Усни, — пожалел он. Пожаловался вроде самому себе: — Со старшим зятем на днях повздорил. Работает в рыбнадзоре. Прирулил на казенной легковушке в гости. Как чуял: я бычишку собратся резать, охромал чё-то бычишка. Зашел зять в избу, прямо в грязных обутках протопал в горницу по чистым половикам, я с ветеринаром как раз беседовал. Зашел зять и вклинился в наш разговор: «Как живешь-можешь, профессор кислых щей?» Оскорбил меня, сопля такая, перед чужим человеком. Хорошо, бычишку зарезал, старуха свеженины нажарила, в сельпо за вином сходила. Зять пить отказался: «Разе ето вино? Тараканья отрава». Не хошь, неволить не станем. Спрятали вино в чулан про запас. Сидим, значит, жареху уплетаем. Старуха возьми и пожалуйся зятю: «Хворать стала, Лазарь. Может, какую лекарству достанешь в городе?» Он давай ее стыдить: «Тя, мать, об дорогу не ушибешь. Чем ныть, истопи-ка банешку». Заплакала старуха, убежала в куть. Такая обида меня взяла, такая обида. «Ну, погоди, — думаю, — лешак пузатый, отбрею». Пошли вечером в баню и схватились там. Я говорю: «Брюшину-то, Лазарь, на взятках отрастил, чисто баба на сносях». Взвился зять! Белье в охапку — и в легковушку. Попутно стегно от бычишки прихватил.
Старик зло рассмеялся.
—
Правду сказал — сразу в кошки-дубошки. Зять — ладно. Тута старуха с младшей дочерью поскандалила. Мотька с мужем у нас обитают. Ждут, когда директор хозяйства квартиру выделит. Разе дождутся? Ето в соседнем колхозе председатель бессменный, а у нас после каждой страды начальство меняется, как в правительстве. Чё зря грешить, Иван у Мотьки — золото. Работящий! Землю уважает. Но бесхребетный, слово никому поперек не скажет. Сначала они гладко с нами жили, да примерещилось Мотьке, будто объедаем мы их. Взяла и отделилась от общего стола. Старуха успокоиться не может, стыдно перед соседями. Живет с детьми под одной крышей, а столуемся порознь. Жалко старуху. Все чё-то копошится. Говорю ей: «Хватит, однако, Руся, на детей лямку тянуть, взрослые — пусть сами о себе думают». Стырит со мной: «Шевелиться надоть, Сидор, иначе хвороба согнет — никто ковша сырой воды не подаст». Оно правильно, какая нонче на детей надежа? Прожили мы со старухой век, чё видели? Одну работу. Через пуп ворочали. Сичас чё не работать — техника! Вон спутник летит. Эх… Молодые все от земли удаляются. Перевернули ее вверх тормашками, вроде на новое место жительства собрались переезжать. Кто там примет? Там, поди, в космосе, не дурнее нас живут. Понимают: пусти — и тамошние края станут как ета озеруха. — Старик нахмурился, смахнул со лба налетевший пепел и подытожил: — Пусть мы со старухой через пуп ворочали, но себя и землю блюли.