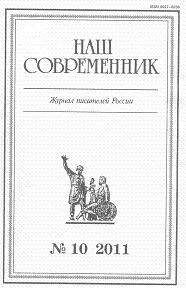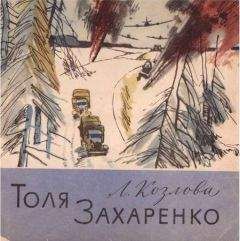Чалдоны - Горбунов Анатолий Константинович
Он сел, подбросил в костер дров и снова обратился ко мне:
— Чё, молчун, все крутисся? Скажи чё-нибудь. Вот и зять Иван такой же. Придет с поля домой — в рот воды набрал. Купил раз Иван с тринадцатой зарплаты бутылку сладкой и шепотком зовет меня в огород. Страсть Мотьки боится! «Те, — говорю, — Иван, надоть с Мотькой одежкой поменяться. Суп варишь, белье стираешь. Осталось рожать вместо бабы». До ветра идет, и разрешения у Мотьки спрашивает. Тоже мне, мужик…
Светало. Где-то далеко-далёко, в селе, за обмелевшей речкой Кудой, лаяли встревоженные ранним прохожим собаки, орали заполошно петухи, звякал боталом на поскотине конь. Это понятное с детства разноголосье напомнило мне о родной деревне. Было когда-то в ней семьдесят два двора, осталось три. Пустые избы, что подобротнее, уплавили по реке Лене в укрупненные хозяйства, похуже — испилили на дрова. Лишь построенную без единого гвоздя церковь не тронули. Вообще-то замахивался на нее один «районный деятель культуры», хотел разобрать и клуб в соседнем совхозе построить. Уже разметил суриком бревна, ломать собрался. Старики с ружьями ее отстояли: «Что удумал, ирод?! Не дадим церковь рушить, пусть на память внукам стоит. Вон на делянах горы леса гниют, бери и строй!»
Красивой была моя деревня. Избы — сплошь в деревянных кружевах. Любили красоту люди, находили время даже в те «мрачные царские времена» наводить ее. Строили навечно, мечтали жить на отчей земле. Сейчас из дерева живицу высосут, прогонят его в брус, слепят как попало дом, он через пару лет затрухлявел. Раньше сибирские мужики по-другому избы рубили. Навалят леса ранней весной, лежит он до лета, квасится. После ошкурят, просушат на вагах. Ударишь по бревну обухом топора — звон!
Солоно жилось при «неразвитом» социализме крестьянам: поставки, нехватка техники, товаров. Но верили они в «светлое будущее» своей деревни, цеплялись из последних сил за отчую землю. Обманули, согнали их с насиженных мест окаянные приживальщики, захватившие власть. Сегодня ту повальную миграцию крестьян в город политические оборотни называют «закономерным историческим процессом». Запланированное убийство России…
Вспоминая о родном ленском крае, я горько ворошил забытое, смотрел в рассветную даль и молчал. О чем говорить? Получается, каждый народ достоин своего хозяина, если не может постоять за себя.
На перепутанные травы струился алый свет, змеисто извивался между прибрежными березками и стекал в озеро. Гулко разбиваясь о тихую воду, с понурых ив капала крупная роса.
—
Озеруха плачет, — скорбно произнес старик. С хрустом поднялся и огляделся.
—
Затих щеглуха, устал. Горлышко росой моет. И человек устает. Без надежи и веры человек быстро изнашивается. Когда все хорошо — и умирать не страшно…
—
Затих щеглуха, затих, — еще раз повторил он. Спустился к устью ручейка и стал разматывать удочку. Словно вспомнив о чем-то сокровенном, обернулся ко мне: — Довелись, Натолий, сызнова за етого щеглуху воевать пойду!
Только теперь, когда рассвело, я по-настоящему разглядел товарища по ночевке. Сутуловатый, сухопарый. Глаза синие, проницательные. Прозрачный ручеек колебался у его ног, лучился и пел.
—
Сто лет не рыбалил, — ворковал старик, пристраивая на ивовой рогульке иссохшее до трещин кривое удилище. Увидел в воде свое отражение и удивился: — Моложавый какой я там, да бравый! — Усмехнулся разочарованно: — Обман зрения…
Обрывистое устье ручейка было глубоким. Воду тихо вертело. С первого же заброса старик выудил карасишку величиной с ладонь.
—
Рыбак душу не морит, — раздалось с противоположного берега. — Рыбы нету… чай варит! — Пастух Гриня помахал нам рукой: — Здорово, мужики! Опохмелиться не желаете? Гутька, неси бутылку и стакан…
—
Спасибо, — отказались мы хором.
—
Как хотите, уговаривать не стану, — обиделся пастух. — А я опохмелюсь. У одного только дятла голова не болит, да и тот от сотрясенья мозгов рано помирает. — И направился в пастушью избушку.
Старик оказался прав: кое-какие караси в устье ручейка и правда держались. Видимо, постоянный приток чистой воды создавал им мало-мальские условия для существования, и они не вымерли. Стекающую из коровника во время дождей навозную жижу сносило течением в тупик озера, где избыток ее по канавке стекал в ложбину, богато заросшую болотной всячиной.
Я пошел в верховье ручейка поискать кислицу. Наткнулся на необобранный курешок, мигом затарил корзинку красными прозрачными ягодами и вернулся на место ночевки — попытать рыбацкое счастье.
Старик уже собирался домой. Он поймал с чертову дюжину неболыпеньких карасей и радовался:
—
Эх, мать честная, домой с уловом вернусь! Вот старухе праздник-то будет. Давненько сибирской ушки не пробовали… — мотнул бороденкой на озеро. — Найдется умная головушка, уберет коровий лазарет, озеруху спустит, грязь ладом повыскребет и снова чистой водой заполнит…
Собравшись в поход, Сидор приподнял на голове полинявший картуз:
— Ну, будь здоров, Натолий!
Повернулся и поковылял по подсохшему проселку домой. Русская душа!
КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Рассказ
Плетусь по ухабистой полевой дороге, перекидываю с руки на руку ведерко, полное костлявых ягод боярышника. Вижу: сидит при обочине на бревнышке старушка в красной шапочке. Сел рядом перевести дух.
—
Не помешаю?
—
Чего спрашивать, коли сел?! — Красная Шапочка оказалась разговористой… — Гляди-ка, боярки набрал! Полезная ягода. Особенно от жабы. В детстве, помню, звякнет утренник — айда с подружкой на речку Ушаковку: там ее красно урожалось! Налепим сладких комков и лакомимся. Сахара даже в праздники не видели, война шла.
Лицо приветливой незнакомки странно сияло, из глаз струился небесный огонь. Мне стало не по себе. Захотелось встать и уйти. Она как бы разгадала мое намерение, удержала за локоть.
—
А я вот за капусткой ходила. Дай Бог агроному здоровьица, разрешил по убранному поживиться. Обычно гонят. Запахивают, чтобы народ не попользовался. Тоже правильно: не садил, не поливал… Горожан понаехало! Я — ловкая, дюжину вилочков у них из-под носа выхватила. Не беда, что гнильцой сбоку побиты, дома обстругаю ножичком и пошинкую впрок — обману зимушку. На столе капуста — в животе не пусто. Раньше она копейки стоила. Горожане в поле не совались, зазорным считалось.
Вилочки в двух связанных между собой авоськах были похожи больше на детские мячи. Стукни оземь — подпрыгнут до белого облачка.
Напротив нас, ехидно посмеиваясь зеркальными стеклами, лихо притормозила серая иномарка. Высунулся курчавый молодец.
—
Бабка, где тут капустное поле?
—
Езжай направо, касатик, — махнула рукой Красная Шапочка в сторону дальней свалки и спохватилась, когда автомобиль уже исчез в клубах пыли: — Ошиблась, будь я неладна, не туда направила.
Стало обидно за ее ласковый разговор с курчавым хватом, примчавшимся за дармовой капустой. Такой все соберет, где плохо лежит.
Кого только не встретишь об эту пору за деревенской околицей — и пеших, и на костылях, и на колесах. Одних гонит беспросветная нужда, других — жадность. Все стремятся что-то урвать от земли, которую давно любить перестали. Если бы любили, не докатились бы до волчьей жизни. Живем, как по трясине идем — не знаем, где засосет.
Вспугнув мои невеселые мысли, Красная Шапочка неожиданно рассмеялась:
—
Намедни бегала на пахоту за морковкой. Наковыряла обломочков, несу домой. Догоняет дедок с бутылками в рюкзаке и с лету сватать: «Выходи, пава, за меня замуж, озолочу!» Забавный. Давай с ним в кошки-мышки играть, мозги пудрить. С болтовней путь короче кажется. Откуда ни возьмись, караульщики капусты: «Показывай, орел, что несешь?» Поддатые крепко. «Не имеете права без ордера обыск чинить, — уперся дедок. — Без адвоката лопотать с пьяными не желаю…» Насмотрелся лысый чудак американских фильмов, решил, видимо, передо мной грамотешкой блеснуть. Огрели плеткой, он и закатил яблочки. Караульщики испугались — и тягу. Лежит, распустился. И воздух в рот дула, и руки-ноги сгибала, еле-еле отводилась. Что, говорю, жених, одыбал? Завтра в церковь пойдем венчаться, коли до поцелуев дело дошло. Мычит в ответ. Да вон, легок золотарь на помине — сто лет проживет!