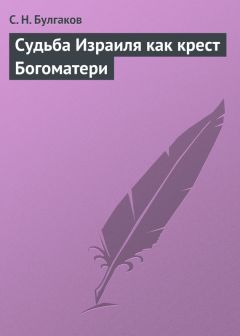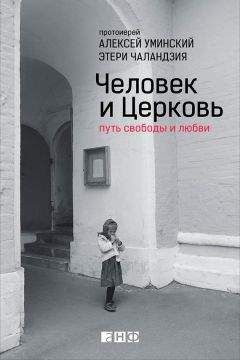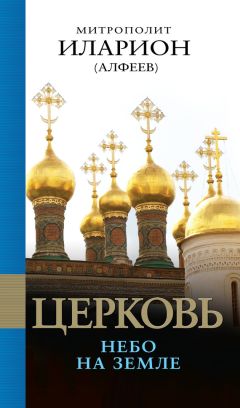Джек Коуп - Прекрасный дом
— Одни прислушиваются к призыву Эфиопии — Черного Дома. Они знают, что Африка должна быть возвращена африканцам, и они — лучше всех, их больше всех любит всевышний. Они знают, что не могут умереть, ибо души их вознесутся на небо. Они знают, что, согласно завету божьему, черная раса не может умереть. Другие снова ведут разговоры о Младенце, который должен сплотить все племена и сделать этих собак-вождей настоящими людьми. Говорят, что Америка протянет нам руку, ибо именно Америка дала нам учение об Эфиопии, о Черном Доме, точно так же, как Израиль дал нам Иисуса. Некоторые говорят о цветном народе японцах, сбросивших господство белой расы. Кое-кто обращается к духам предков и к знахарям, которые уверяют, что их снадобья превратят пули белых солдат в воду.
Мьонго окунул руку в ручей и разбросал сверкающие брызги.
— Теперь, Исайя, мы видим все, как оно есть. Пусть воины говорят, что им вздумается, лишь бы они выступили против врага. Они будут драться лучше с оружием в руках и будут умирать легче, веруя в бога. Мы должны опираться на нашу молодежь и отнять ее у вождей. Пусть вождям останутся не племена, а лишь пустые краали.
— Понятно. А как с образованными — вроде, например, Мативаны? — Мьонго повернулся и сплюнул на камень.
— Значит, ты его знаешь? — спросил Коломб.
— Однажды я встретился лицом к лицу с этим ученым Мативаной. Клянусь богом, если бы он был один, я бы согрешил и убил его.
— Он многому научился, и у него есть деньги.
— Верно, но научился он не тому, чему нужно. Он много говорит людям, но о чем? Вот о чем: когда каждый черный станет таким образованным, как он, а это будет через сто, нет, через тысячу лет, тогда все вместе мы пойдем к белым и попросим у них свободы. У Мативаны бычий язык и шакалье сердце. От него и воняет, как от шакала. Фу!
Коломб засмеялся. Ему приятно было видеть, как сразу рассердился суровый дровосек, как он с отвращением сплюнул, сморщил нос и нахмурил брови. И странно, что весь свой гнев он направил на этого вдумчивого, но осторожного ученого. «Он научился не тому, чему нужно». Значит, на свете есть столько знаний, что можно учиться всю жизнь и только потом узнать, что ты пошел по неверному пути? Вот и Мьонго тоже. Прав ли он? Он говорит: учись в борьбе; он говорит: человек борется лучше с оружием в руках и умирает легче, веруя в бога. Уверенность этого человека заставляет прислушиваться к его словам. Он взял эти мысли у Давида, но использует их по-своему.
Они возвращались, накинув пиджаки на одно плечо. Рубашка Мьонго была расстегнута на груди. Он, казалось, забыл о том, что сегодня воскресенье, и думал только об одном: как убедить этого юношу в своей правоте. Исайя был способным учеником и схватывал каждую новую истину на лету, как хватает добычу сильный и ловкий зверь. Он не задумывался над пустяками, почти не испытывал колебаний и не спорил о религии. По-настоящему религиозный человек никогда не заходит в размышлениях слишком далеко: он предпочитает оглядываться и прятаться за своими верованиями. Как гусеница, которая прядет свой кокон, он прячется в них все глубже и глубже, пока внешний мир не окажется далеко-далеко. Но для такого человека, как Исайя, религия — что крылья для орла; она уносит его из болота невежества, глаз его становится более зорким, а жажда знаний все растет и растет.
Утоптанной тропинкой они поднялись от ручья к зловонному водостоку и вошли в «город лачуг». Мьонго надел пиджак и застегнул рубашку. Встречные почтительно их приветствовали. Некоторые из них оставались язычниками: в воскресенье они надевали одежду своего племени, чтобы хоть один раз в неделю почувствовать свою связь с прошлым. У разложенных под открытым небом костров в жестянках из-под керосина или в чугунных горшках на треногах стряпали женщины. Коломб заметил женщину, которая утром плакала у церковных дверей: она скорчилась на куче тряпья. Рядом с ней сидел серый от грязи и коросты ребенок с вздувшимся животом; он обгладывал кость, покрытую лениво гудящими мухами. Когда они проходили мимо, женщина приподнялась каким-то змеиным движением и с отчаянием взглянула на Коломба.
Они пообедали вместе с Мейм. На пороге лачуги положили большую доску и поставили на нее горшок со сьинги — похлебкой из тыквы с кусочками мяса и жира. Мейм, Люси и маленькая Лозана уселись на циновках внутри лачуги, а Мьонго и Коломб расположились снаружи, прямо на солнце. Четверо младших детей, тихие, как мыши, протиснувшись между взрослыми, протягивали ручонки к еде и не сводили с нее глаз. Коломб ел железной ложкой, которую всегда носил с собой в кармане. У Люси была ложка красивой формы, сделанная из красного лесного дерева и украшенная выжженным узором, а отец ее был обладателем ложки из белого металла, как у европейцев, прикрепленной к его поясу тонкой цепочкой. Он ел медленно, не торопясь, иногда выбирал кусочек мяса получше и клал его перед жадной маленькой ручонкой. Еда была важным, серьезным делом. И лишь тихий вздох нарушил тишину, когда на доске осталось несколько маленьких кусочков, ибо дети, истекавшие слюной при виде еды, стеснялись их взять. Глаза Мейм блеснули. Ворча, она достала из-за спины второй чугунный горшок и неожиданно поставила его на доску. Четыре сияющих коричневых личика следили за каждым ее движением с открытыми ртами.
— Берите! — сказала Мейм.
Руки снова протянулись.
— Это просто чудо, Мейм, — радостно усмехнулся Мьонго. — Не хлеб, не рыба, а настоящее вкусное сьинги. А почему мы не едим рыбу? Чем мы, зулусы, лучше апостолов?
— Я ела рыбу, — ответила Мейм, — но мой желудок не переварил ее.
Смеясь, Мьонго встал, потянулся и стал полоскать рот.
— Да, Мейм, некоторые вещи не переваривает наш желудок, а кое-что — наша голова. Это пройдет. Все, что даровано нам богом, — это благо, а время когда мы сможем пользоваться его дарами, близко. Нам не достигнуть Сиона в один день, но когда мы придем туда, солнце будет сиять нам вечно.
Коломб подумал, что Мьонго повторяет слова проповедника Давида, но произносит их лишь по привычке, не от души.
— Что такое Сион? — спросил он с вызовом.
Мьонго взглянул на него смеющимися глазами, но продолжал полоскать рот.
— Когда ты говоришь «Африка для африканцев», я понимаю, что ты думаешь, но когда ты говоришь о Сионе, у меня на душе неспокойно, — продолжал Коломб.
— Это не одно и то же, Исайя.
— Нет.
— Сын мой, одно из этих понятий предназначено для тела, а второе — для духа. Африку ты ощущаешь под ногами своими, а Сион — это город Давида, это новый Иерусалим, который построим мы или наши дети после того, как покончим с белыми.
В узком проулке было тесно. Одни еще продолжали есть, а другие уже отвернулись от горячих горшков и досок. Незаметно они подвигались ближе, чтобы послушать Мьонго. Солнце проникало в щели между лачугами, а в воздухе стоял запах пищи, дыма, измазанной дегтем дерюги и человеческого пота. Вдруг по толпе пронеслось какое-то слово, и проулок мгновенно опустел. Люди не бросились врассыпную и не побежали. Их поглотила жаркая пасть лачуг. Дети исчезли так, как исчезает вода в сухой почве.
Зазвенели уздечки лошадей конной полиции; из-под черных островерхих касок кавалеристы бросали во все стороны быстрые взгляды. Каждый ехал, держа повод в обтянутой перчаткой руке и положив другую руку на кобуру револьвера. Через плечо, пересекая темно-синий мундир, висел патронташ. Они рассыпались и поодиночке объехали все проулки «города лачуг» и, чтобы избежать проезда через овраг с нечистотами, миновали их вторично, после чего вновь выстроились на дороге. Люди, не успевшие спрятаться, кланялись и говорили: «Инкоси!» Кавалеристы отвечали кивком головы. Они выехали в долину, а спустя десять минут рысью вернулись оттуда, и люди, высыпавшие на улицу, снова провожали их каменным взглядом, тихо переговариваясь между собой. Никто не знал, зачем приезжает патруль: то ли чтобы лишний раз напомнить о себе, то ли чтобы не застаивались жирные, лоснящиеся лошади. Всадники появлялись и исчезали неожиданно, и кто-нибудь всегда говорил: «Это едут собирать подушный налог».
Давид отправился читать проповедь населению в низовье реки Умгени, в сторону моря. В ту ночь Коломб вместе с Мьонго, Люси и еще одной женщиной постарше принявшей христианство, расположился на ночлег в чаще густого кустарника позади дома мисс Брокенша. Светила луна, и камни казались белыми, а кусты — сине-фиолетовыми. Ползучие растения напоминали змей, что свисают с деревьев, ожидая, когда мимо пролетит птичка. Женщины собрали хворост, а Коломб соскреб с земли листья и выкопал зарытые под ними восемь винтовок. Оружие было густо смазано колесной мазью и завернуто в лоскуты мешковины. Они спрятали его в две вязанки хвороста — такие вязанки часто можно увидеть на голове зулусских женщин. Люси пошла поискать еще хворосту, и Коломб последовал за ней. Они прижались друг к другу, она положила голову ему на плечо, и он почувствовал, как дрожит ее тело. Он расстегнул корсаж ее платья и, коснувшись ее груди, испытал чувство, какое испытывает доярка, когда ее пальцы влажны от молока, теплого, как сама жизнь, и нежного, как занимающийся день.