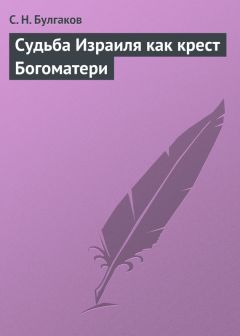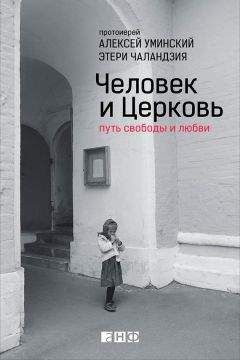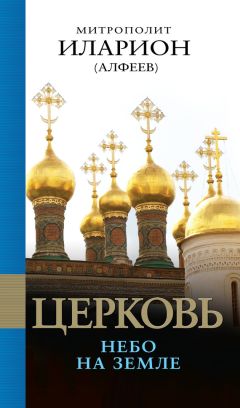Джек Коуп - Прекрасный дом
— Мейм, это я, Исайя, — сказал он, назвавшись своим христианским именем.
— Исайя пришел, — повторила она сонным голосом. — Да будет с тобой бог. Входи.
Молодая девушка зажгла от тлеющих угольков масляную коптилку и поставила ее на ящик. В лачуге было еще четверо детей: двое малышей спали, а двое старших смотрели на него большими, удивленными глазами. Все они копошились в какой-то куче тряпья, кроватью им служила крышка ящика, лежавшая на сложенных кирпичах. Напротив стояла настоящая железная кровать, застланная ярким лоскутным одеялом, на которой спала Мейм, а если она желала уединения, то к ее услугам была кисейная занавеска.
— Могу я спать здесь несколько дней? — тихо спросил он.
— Пожалуйста, Исайя, раскидывай свою постель, где хочешь.
Он говорил с ней о семейных делах, о церкви, и самый ее голос успокаивал его. Двое детей, поначалу разглядывавших его, теперь улеглись спать, а старшая, которой было лет пятнадцать, повинуясь взгляду матери, забралась в постель и зарылась в ворох рваных одеял. У Мейм было крупное плоское лицо цвета светлой меди, с ямочками на щеках, маленькие, но умные глаза и крупный, решительный, почти жестокий рот.
В положенный час она сказала «спокойной ночи», спустила кисейную занавеску с вбитых в стропила гвоздей и влезла на скрипучую кровать. Коломб расстелил свои одеяла на глиняном, выпачканном навозом полу и улегся между матерью и детьми. Дверь загораживал лист жести, укрепленный засовом. Огонь, тлевший у его ног, тихо шелестел, когда опадали угли. Люди кашляли, храпели и беспокойно ворочались в своих лачугах, прижимавшихся друг к другу в поисках опоры. По полу шныряли крысы, а по железной крыше мягко накрапывал теплый дождь.
В воскресенье Сионская церковь была полна. Это было большое здание с высокими глиняными стенами и не заделанной изнутри бревенчатой крышей, покрытой сверху настилом из травы тамбути. Окна были застеклены, а во фронтоне над алтарем зияло отверстие в виде креста. Напротив этого отверстия, пропускавшего яркий солнечный свет, висело искусно сделанное из дерева распятие. Фигура Христа, казалось, растворялась в солнечном блеске, и молящимся чудилось, будто сам бог в сострадании своем протянул сверкающую десницу, чтобы выхватить из жестоких объятий смерти своего сына.
Коломб вошел в церковь одним из последних. Свежий и аккуратный, в одежде, которую Мейм почистила и выгладила ему, он стоял возле двери и перебрасывался словами со знакомыми. Старшая дочь Мейм осталась на улице; при крещении ей дали имя Роза Сарона, но люди называли ее Лозаной. Она знала, что ей достанется от матери за то, что она замешкалась у дверей, и все же она никак не могла оторвать глаз от Коломба. Она пойдет за ним хоть на край света, как за настоящим святым.
Зажиточного вида мужчина в добротном длиннополом черном сюртуке подошел к Сионской церкви со стороны дороги. На нем были ботинки, рубашка, украшенная спереди большой запонкой, и широкополая шляпа с высокой тульей. Рядом с ним шла его дочь в платье секты эфиопов, на красном корсаже которого был вышит широкий белый крест. Коломб хорошо знал их. Умея владеть собой, он поздоровался с ними сдержанно, но маленькая Лозана заметила, как просветлело его лицо. Он пожал руку отцу, Мьонго, и легко коснулся ладони дочери, сказав: «Как поживаешь, Люси?» Она подняла глаза, и радостная улыбка сверкнула на ее лице, но уже через мгновенье она почтительно опустила голову — ведь перед нею была дверь церкви.
Они вошли внутрь, женщины встали слева от прохода, мужчины справа. Лозана последовала за Люси и встала рядом с ней. Она знала, что эту девушку любит Коломб, и все же втайне была счастлива оттого, что стояла рядом с ней, такой красивой и такой благочестивой. Коломб вместе с Мьонго остановился неподалеку от входа. Люди оборачивались, чтобы взглянуть на человека с широкими плечами и красивой квадратной бородой, и удовлетворенно кивали головами. Вошел еще один человек, высокий и сутулый, и встал слева от Коломба. Это был Эбен Филипс. Коломб был почти уверен, что Эбен придет, и они молча пожали друг другу руки.
Эбен был методистом и не принадлежал к прихожанам Сионской церкви, которая давно стала самостоятельной. Он не был членом секты эфиопов; не был он и зулусом. Но до одиннадцати лет он воспитывался в маленьком зулусском краале, находившемся в шести часах ходьбы от хижины Но-Ингиля, среди густого кустарника, где его называли Узаной, что значит Ничье Дитя. Иногда мальчик думал, что кожа его так бледна потому, что он альбинос, и он напряженно вглядывался в зеркала горных заводей, чтобы выяснить, действительно ли глаза его так красны, как у знакомых ему альбиносов. Позже ему сказали, что он полукровка, навсегда забрали из долины и отправили в миссию. Там его нарекли Эбеном, потому что бог бросил его в мир, как камень, и он получил фамилию Филипс по имени своего белого отца. Миссионеры не позволили ему называть себя Эрскином. Они всегда помогали ему и ставили его на ноги, если дела его шли плохо. Они помогли ему жениться на уважаемой Джози Маккензи, у которой тоже с одной стороны были белые, правда очень далекие, предки; однако она так не тянулась к черным, как он. Эбен бывал счастлив, когда встречал своего сородича из племени зонди из Края Колючих Акаций, но первым чистокровным зулусом, ставшим его другом, был Коломб Пела. Коломб был для него не просто другом, он был его вторым «я», человеком, каким Эбен мечтал стать, независимо от цвета кожи. В миссии Эбен научился играть на фисгармонии; он любил посещать Сионскую церковь и иногда играл для епископа Зингели.
Церковный староста вызвал Коломба на улицу и, положив руку на плетеный столб, на котором висел колокол, тихо спросил:
— Ты привел этого цветного человека?
— Нет, он пришел сам.
— Что ты скажешь, брат Исайя? Можно ли ему доверять? Проповедь касается будущего эфиопов.
— Попросите Эбена сыграть. Он надежный человек.
Эбен Филипс испытывал гордость, сидя перед клавиатурой фисгармонии. Музыка имела такую же власть над молящимися, как вихрь над деревьями в большом лесу: она заставляла их одновременно склоняться единым гармоничным движением. Эбен знал, что они любят слушать гимн — им нравилось целиком отдаваться чувству ритма, словно сердца их начинали биться по-новому. Эбен играл вступление так, как ведущий тенор начинает новый и волнующий речитатив, а когда он нажимал на басы, вся церковь гудела вибрирующими звуками. На улице неверующие язычники останавливались, заслышав, как наполняется музыкой вся долина, и возводили глаза к небу, а дети раскрывали рот, дабы насладиться ею полнее. Певцы начинали раскачиваться в такт музыке; ноги отбивали ритм. Фигура Христа дрожала от игры солнечных лучей, и закрывшим глаза казалось, будто он снова вернулся и парит над ними, как легкая черная птица.
Епископ Зингели очень сердился, когда от шарканья и постукиванья человеческих ног поднималась пыль. Его густой бас направлял поющих; некоторое время он позволял им петь, а затем знаком останавливал Эбена и простирал вперед руки. Гимн замирал на губах; люди опускались на колени и начинали молиться.
Епископ неторопливо руководил молитвой, в которой прежде всего воздавалась хвала Всевышнему. Простым языком он описывал блаженное состояние святых и награды за истинно христианскую жизнь. Слушатели безмолвствовали. Когда он называл имя Иисуса, они отзывались «Иисусе Христе!»
— Послал ли ты своего сына на новые страдания, о господи?
Люди застонали.
— Угнетают ли враги Сиона твоих детей? Удалился ли ты от нас, о господи, когда мы истекаем кровью, когда мы погибаем?
— Покинул ли ты нас, всевышний?
— Оставил ли ты нас на произвол кнута и бича в Египте? Ты ли вложил в руки фараона плеть, подушный налог и принудительный труд, ты ли обрек своих детей на семижды семь бед?
Люди, безмолвно внимавшие описаниям блаженства, теперь яростно зашевелились, а лица их озарились удовлетворением, когда они услыхали о своих страданиях и муках с амвона. Епископ превратил этот поток жалоб в длинное и довольно нудное молебствие, и когда у прихожан в том или ином месте вырывался особенно громкий взрыв гнева или стон, он еще и еще раз повторял те же слова.
Коломбу стало скучно. Эта часть службы епископа ему не понравилась. Словно собака у всех на глазах зализывает свои раны. И все это неизменно заканчивалось обещанием, что бог накажет своих врагов и развеет их по ветру, как мякину. Но обещание это звучало неубедительно, и люди оставались равнодушными и удрученными. Ему хотелось послушать проповедника Давида, сородича и близкого друга Мьонго и Люси. Давид и Мьонго привели с собой Люси из Энонского леса, находившегося на расстоянии дня ходьбы от Питермарицбурга. Оба они были мастерами-лесорубами и подрядчиками белых владельцев леса. Это были люди с сильным характером, успешно выступавшие против вождя своего племени Мвели; они даже добились у правительства разрешения выйти из-под власти Мвели, чтобы исповедовать христианскую веру и распространять слово божие. Именно благодаря встрече с Мьонго Коломб перешел от белых методистов в секту эфиопов. Мьонго высказал простую мысль, столь простую, что, казалось, не знать этого было невозможно, и все же, когда Коломб услышал об этом впервые, ему почудилось, будто гром грянул среди ясного неба. «Африка для африканцев!» Эти слова заставляли сердце биться так сильно, что оно готово было вырваться из груди. За этими словами таились бескрайние дали Черного Дома, простирающегося далеко за горизонт, куда уже не могла ступить нога человеческая, леса, пустыни и моря. Мысленно Коломб не раз проделывал это путешествие; ему нравилось слово «Африка», слово, ставшее для него новым, когда Мьонго вложил в него великую идею. Африка — Черный Дом, в этом сомнений не было. Когда земля будет принадлежать африканцам, они будут гостеприимны. Каждый черный человек, мужчина или женщина, гостеприимен, радушие было частью его воспитания. Нашлось бы у них место и для Эбена с Джози и для всех им подобных; нашлось бы оно и для добрых умных индийцев; нашлось бы место и для старой мисс Брокенша, белая кожа которой была просто ошибкой всевышнего, и для Тома, если он захочет, и для нескольких миссионеров, если они этого пожелают. Но до тех пор, пока африканцам ничего не принадлежит на их собственной земле, о радушии нечего и думать.