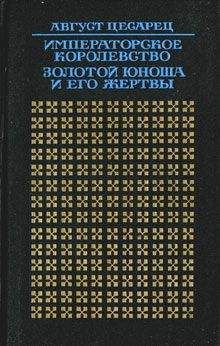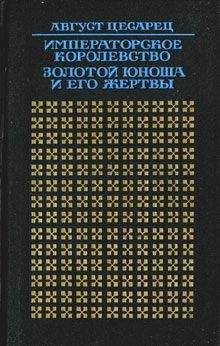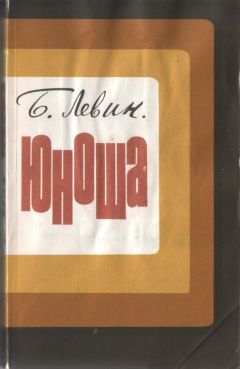Алексей Румянцев - Я видел Сусанина
Над кокорой, где угнездился мальчуган, распахнуло мощные ветви старое дуплистое дерево… А там — что? Пониже дупла средь листвы болтаются чьи-то ноги в лаптях. Оборки сбиты небрежно, одна портянка растрепана.
— Пыхтишь там зело, — тревожится нижний. — Всполошишь весь рой.
— Молчи, Башкан, знаемо дело.
— Давай, ловчи, Репа! Я тут с корзинкой подстроюсь, ты — ветку тряхнешь…
— Наши будут пчелки…
Разумеется, парнишки в лаптях вели разговор свой по-древнему. «Пчела», например, у них звучало как «бжола», корзина — «зобенька»; да и совсем непонятные слова: «порато», «стромко»… Зачем писать их? Темнить речь я не хочу, я расскажу проще, по-нынешнему. А мальчишки — будь они из какого ни есть века — всегда и во всем, конечно, мальчишки.
— Трясу-у, Башканище-е, — слышен истошный крик. — Гопп-ля-я!..
— Эх, мимо шатнуло… Давай скорей дрыгаля!
Но что это?
Загадочный, таинственно-вибрирующий звук, что похож был вначале на дальний рокот авиационного мотора, явственно превратился вдруг… в бормотание бубенчиков! Торопливый колесный перестук по суховалу, дробь конских копыт за спиной и — «Дел-лай, залетные!» — слышится почти над ухом. Прочь, прочь с дороги, пото́м разглядим колесницу и древнюю упряжь. Лошадьми правит, сидя верхом на передней, верткий разбитной мужичок, в тележке трясется-мотается среди подушек нечто рыхлое и тучное, пьяно рявкающее:
— Г-гони-и, черррвь!!!
Кони, мелькнув стремительно гремящим видением, скрылись на боковом объезде — там был, надо полагать, спуск в овраг. Подростки переглянулись, перешепнулись, но пчелы, грозно кружа, тучей вились над их головами. — Бежим, — встревожились оба. И лесная глушь мгновенно поглотила их.
В это время из глубины оврага донеслось приглушенное — «Карр-хар-рра… Крэк!» С другого берега, с темных вершин раздался ответный свист и сигнал:
— Кар-ррра… Крэк!
И тотчас взорвалась дремь обманчивая, сонная, тотчас тревогой все налилось. Возня и шум слышны за хвойной густелью. Всполошенный запоздалый крик:
— П-пусти… ыхх, окаянные!
— Не крутись, волчье пузо.
— Х-хы, поплатиться надо, сударь-сударик.
— Должишко помним за тобой.
…Вот вам на первый раз и запах семнадцатого века. Обычные лесные шуточки: проучен какой-то баринок, воеводский или судейский дьяк[1] во хмелю. «Серые зипуны», — так звали в тех местах вольницу. Скоро мы опять встретимся с ними; стоит ли, право, сейчас останавливаться?
За оврагом хвойники мало-помалу раздвинулись. Яркая, расцвеченная желтыми лютиками и ромашками подсека. Малинник с густо-красными огоньками ягод; свежая жердяная изгородь у перекрестка дорог. С вереи проездных воротец скалится, будто смеясь, выбеленный временем лошадиный череп. За городьбой, шагах в тридцати от прясла, сложены пирамидкой мшистые, в лишаях каменья; над ними торчит хваченный гнилью столб с полуоблезлой иконой богоматери. Чья-то заботливая рука обрядила ее полотенцем, сейчас уже серым, испорченным непогодой; пониже иконы — струганая спица с коричневым черпаком из бересты. Оказывается, под камнями живет в заглушке веселый булькающий ключик. Где-то подальше превратится он в серебряный разговористый ручей и вольется с шумом в другой поток; но тут, в густой сочной траве у столба, разглядеть малышку не так уж просто.
Солнце и синева; тихо дышит в истоме спелая рожь, чуть шелестя и колыхаясь. Торная стежка, оторвавшись от матери-дороги, резво бежит на желтый бугор — межником, наискось, мимо горелых, сваленных в большие кучи пней. Ржица — благодать, худого не скажешь; спелый колос так и клонится на тропу. Комбайн бы сюда нынешний, лафетную жатку! Но — увы — даже обычных жниц, с обычными зубчатыми серпами не видать окрест.
Выше и круче подъем; на самой вершине открытого бугра будто кипят подвижной листвой три белоногие молоденькие березки. И до чего же приманчива с крутизны русская неоглядная даль! Позади, откуда вывела нас ямская дорога, весь небосвод зыбится-клубится волнами хвойников и пестролесья; и впереди, и справа, и слева — всюду все та же пьяняще-захватывающая, словно дымящаяся под солнцем зеленая ширь; лишь кое-где в курчавую эту зыбь вкраплены желтые пятаки полей-полянок… Так вот какова ты, древняя Костромщина! Овсы, рожь, подсеки с репой да горохом, пахотные угодья — все это человек-труженик не в год и не в два отвоевывал у лесного океана, расширяя шаг за шагом запашку, вырубал и корчевал, палил огнем, отгораживался от наступающих следом кустарников.
За березовым светлым рядком, где по луговине вьется-искрится жемчужная змейка-речка, сбились в теснящую кучу пять — семь бревенчатых строений над берегом. Хутор не хутор, а и деревней как-то неловко назвать. Соломенные хохлатые крыши, местами ободранные до ребер, не по-нашему высоки и крутобоки, вместо окон подслепо и мрачно глядят на реку, навстречу нам, темные вырезы в стенах. Неровный пунктир малюсенных, с мышиный глазок, отверстий-прорубов: одни заткнуты ветошью, как в курных банях, другие открыты, — видимо, «для вольного духу». Неудалы хоромцы, что и говорить! Будто сползлись они тут на береговой срез прямо из сказки, из владений дряхлой бабы-яги; сползлись да и задремали в скуке средь огородов. Ни деревца меж избами, ни кусточка малого зеленого. Красоту, что ли, не ценят жители? Чувства иные? Обычаи? Нашу Малиновку, например, или там Аниково, Мезу, Тофаново просто и не представишь без шептухи-березы подле открытого узорчатого оконца, без рябинки или душистого тополя… А здесь-то? Здесь?.. Крепко же, надо полагать, досаждают мужику буйные, отовсюду напирающие кусты, если уж в проулочке своем, у жилья родного, не хочет он видеть эту красу.
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!
Долговязый Башкан так летел по чапыжам, что в ушах у него свистело; Репа едва поспевал сзади, то и дело приступая волочившуюся за лаптем портянку. На приовражном захламленном мыске, где прутняк под ногами оказался особенно коварным, Репа задел рваным концом портянки неприметный сверху тырчок, с разбегу ткнулся лицом в муравьиную кучу.
— Мураши-и! — взвыл он, отплевываясь. — И чего ты-ы-ыы… как лось!
Башкан тотчас обернулся на звуки. Прижав палец к губам, страшно замотал головой:
— Тш-шш, «серые зипуны-ы»!.. А ну как и здесь они? — Прислушался к зеленой тишине мелколесья, шапчонку смешную сдвинул на одно ухо. — Приметил, что там за люди? Узнал кого с дерева?
— Да-а, узнаешь… ежели пчелы-то! Эвон, какой волдыряка на скуле. И тут, и тут.
— Ладно, и у меня волдыри… Малину-то, блажной, рассыпал. Не видишь?
Вместе сгребли в набируху-лубянку изрядно помятые ягоды, укрыли сверху листвой. Не получилось дело с пчелиным роем — кузовок спелой малины хоть притащит домой Репа… Впрочем, как же домой? Вантейша Репа, Ванька, Лабутин сын, — это костромич, слободской мальчишка; просто он тут в гостях, на прокорме в Нестерове, у ветхой бабульки Секлетеи. А Башкан, если уж точно сказать, живет на прокорме всего мира. Нищеброд он бездомный, живущий в забросе, отрёпыш, ночующий там, где застанет темная ночь. Башкан, кажись, и слова такие позабыл: дом, домой. Вот свел знакомство с Вантейшей, в Нестерове ночуя, — там и дом был вчера. У бабки Секлетеи, на повети… Дальше пойдет — новый дом, новую дружбу-удачу почнет искать. Может, оплеуху найдет — давно свычен и с оплеухой. Кому побирушки надобны?
— Ты кто ж, Башкан, по-настоящему? — бередит рану любопытствующий Репа. — Ты как, сбеглый? Откуда знаешь про «серых зипунов»? Я никому не скажу, верь слову.
— Репа ты конопатая, пискля ты плакида… Лупить станут — с первого визгу скажешь.
— За тебя, что ли, станут лупить?
— Нет, за попова жука. — Башкан глянул настороженно в проем ольховых, в солнечной ряби веток, туда, где у кромки леса начинался лужок. Светлоокая тихая Шача разрезала лужок надвое, а южнее — не окинуть глазом — шла болотистая, ржавая долина поречья.
Проселком спускался с поля вниз какой-то старик.
— Из тех?.. Из овражных?
— Не-ет, — отозвался Репа, всмотревшись. — Этот невредный, знаю: бабульке он дров присылал. Пошли?
Башкан вздохнул:
— Иди, Репа, один: в лесу мне сподручнее ночлег. И тепло, и ягоды-грибы… А за рубаху, брат, за шапку — за твой дар — век буду помнить.
— Да ты что?! Пойдем.
— Нет уж, Вантейша.
Уговорит ли нового приятеля рыжий Репа? Или расстанутся дружки на кромке лесочка? Сидеть-то некогда с ними, читатель: новые знакомства ждут нас. Хоть и жаль, но покинем на приовражном мыске двух пареньков, перенесемся на Шачу, на солнечный простор луговины.
Перед нами скользкий, в бурых суглинных разводьях спуск к реке. Четверо мужиков, предков наших, чинят растрепанный вдрызг мостишко. Как не остановиться здесь, не подслушать речи мужицкие?