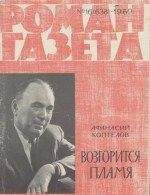Афанасий Коптелов - Великое кочевье
— Посади бабу хоть на хвост кобыле, — пробурчал Утишка Бакчибаев, высокий и кряжистый человек со скуластым лицом, заросшим редкими кустиками черной бороды.
Этими словами он хотел подчеркнуть бедность Токушева.
В молодости Утишка собирался жениться на Карамчи, даже отдал за нее часть калыма и приготовил лиственничную кору для постройки нового аила, но Борлай, сговорившись с девушкой, ночью умчал ее в дальнюю долину и только позднее уплатил калым. С тех пор Бакчибаев затаил злобу на Токушевых и рассказывал о них разные небылицы, хотя частенько заезжал к Борлаю и даже навязывался в друзья. Узнав о большой перекочевке, Утишка решил ехать вместе со всеми. Его прельщало, что в необжитой долине, с нетоптаными травами и нетронутой землей, он будет самым богатым и, стало быть, самым уважаемым. Сейчас он дал понять, что у него Карамчи не ходила бы пешком, а ездила бы на хорошей лошади.
— Я хотел сам идти пешком — жена не согласилась, — просто объяснил Токушев. — За старые порядки держится.
— Уважить мужа хотела, — сказал его сосед Бабинас Содонов, на редкость бородатый алтаец в черной войлочной шляпе, похожий больше на старовера, чем на кочевника.
Карамчи молчала.
Борлай поднялся выше всех на пологий склон сопки, окинул взглядом стада коров, табунки лошадей и спросил сородичей:
— Все собрались? Можно отправляться?
— Паршивого барана, Ярманки, нет, — глухо напомнил средний брат Борлая — Байрым Токушев.
На поляне закричали Мундусы, озлобленные неслыханной дерзостью Ярманки Токушева, осмелившегося нарушить основную заповедь предков.
— Мало ему баб из чужих сеоков!
— Не пускать грязного человека в долину Голубых Ветров!
— Теперь на весь Алтай просмеют Мундусов.
— Не смеяться, а плетью надо учить бесстыжего, — надорванным голосом крикнул Тюхтень и медленно поднял тяжелую голову с морщинистым лицом, слезящимися глазами и седеющим пучком волос на подбородке.
Борлай думал о людях, собравшихся на поляне. Несколько дней тому назад они почтительно слушали его рассказы о долине Голубых Ветров, во всем соглашались с ним, так же, как он, ругали Сапога Тыдыкова, бывшего потомственного зайсана,[8] которого народ все еще считал главой сеока Мундус и почитал, как родного отца. В глазах было единодушное признание, что только он, Борлай Токушев, может быть их вожаком. А теперь лица их горели возмущением. Борлай понял, что они считают себя глубоко оскорбленными поступком его брата, приподнялся в седле и кинул нарочито грубо:
— Зря кричите. У нас, братьев Ярманки, кулаки крепкие. Он это знает.
На поляну вышли знакомые лошади. На одной ехал старый Токуш, отец Борлая, поддерживая берестяную сумину с кермежеками и амулетами, а на второй покачивалась Чаных. Позади, уцепившись за старших, сидели дети Чаных от первого мужа.
Они были погодками — старшему шесть, а младшему пять лет. На них болтались овчинные обрывки.
Показались последние всадники, а Ярманки все не было, хотя вчера он уверял, что выедет первым.
— Видно, не отпускает его подлая девка, — простонала Чаных.
Повернувшись к народу, Борлай взмахнул правой рукой, на которой болталась плеть:
— Откочевываем!
Пегуха подымалась по крутому склону, отыскивая чуть заметную тропинку, которая вела к скалистому хребту с вечными снегами.
Крикливый голос настиг Борлая:
— А кама не забыли позвать?
— Я был у кама Шатыя, но не мог упросить старика, даже проводить нас не согласился, — отозвался Тюхтень.
— Без кама нельзя.
— Беда упадет на нас черной тучей.
— Несчастье случится.
Одни кричали, что надо возвращаться в зимние аилы и в них провести лето, другие настаивали на богатом подарке шаману Шатыю, которого считали в горах «частым гостем богов».
Многие подосадовали, что неприятный разговор вспыхнул на взгорье, где летают духи — хозяева лесов, гор и снежных вершин.
— Не уйдем — последние овцы подохнут. Опять останемся без сена, а зимой снова к Сапогу бросимся: «Дай сенца для ягнят», — передразнил Байрым и жестким голосом закончил: — Сена он даст, но… сено у него дороже золота.
— Почему же Шатый камлать не согласился? — робко спросила Карамчи, поравнявшись с мужем.
— А потому, что он, как старый ворон около падали, возле баев держится.
Борлай, не торопясь, понукнул Пегуху и, тихо покачиваясь в такт шагам, скрылся в лесу. За ним, звеня ослабленными удилами, двинулись лошади сородичей. Широкой волной хлынули овцы. Постукивая копытами, шли коровы.
Когда последний всадник ступил на извилистую лесную тропу, Тюхтень нерешительно крикнул:
— Ничего, привезем кама из-за Катуни-реки.
И опять все заговорили, но уже о другом. Всем хотелось поскорее забыть неприятный разговор. Женщины расспрашивали, широкая ли долина в облюбованном месте, глубокая ли река и далеко ли в лесу сухостойник. Мужья, успокаивая их и себя, говорили, что нигде нет такого рослого и сочного ревеня, как на крутых склонах тех гор, упоминали о бесчисленных зарослях душистой и приятно-горькой калбы — таежного лука — и хвалили охотничьи угодья.
Гортанные звуки песни Борлая будто стлались по косматым вершинам.
Тропа вела через камни и трухлявые колодины, извивалась среди леса, не знавшего топора. Высокие кусты горных пионов напоминали пылающие костры. Впереди виднелись разлохмаченные ветрами темно-зеленые кедры.
Молодая хвоя лиственниц здесь еще легче и прозрачнее. Потухали алмазные искры осыпающейся росы.
Тихий день наливался теплотой.
3Чем выше поднимались путники на крутую гору, где каждый шаг — ступенька, тем низкорослее становилась зелень, угрюмее кедры и холоднее дыхание ветра. Вот и последние приземистые деревья остались позади. Седые мхи, крепкие ковры низко стелющейся полярной березки, снежные пятна по сторонам… А кругом вздымались гребни гор.
Когда лошади, обливаясь потом и дыша учащенно и горячо, на минуту останавливались, Борлай, придерживаясь за гриву Пегухи, оглядывался на длинную полоску Каракольской долины, затерявшейся среди гор. Там когда-то кочевал отец старого Токуша, дед Борлая, пока ту землю не захватили баи. Дети Токуша с малых лет пошли к зайсану Сапогу Тыдыкову в работники. Десятилетний Борлай пас отару овец в триста голов, через три года ему Доверили большое стадо коров, а еще два года спустя он стал пастухом одного из бесчисленных табунов Сапога. За пятнадцать лет ему удалось скопить пятьдесят рублей, чтобы уплатить калым за Карамчи. Вскоре после свадьбы посчастливилось убить в горах дикого марала с пудовыми рогами. На вырученные деньги он купил лошадь и двух коров. Летом пил свою араку, ездил по гостям, как настоящий хозяин. Осенью 1916 года его и старшего брата Адара взяли в армию на тыловые работы. Служили они в разных частях. Рыли окопы, мерзли в Пинских болотах. На обратном пути Борлай отстал от эшелона на станции Кинель. Долго плутал по российским дорогам. Возвратившись в родную долину, он не застал брата дома. Адар ушел с партизанским отрядом. С тех пор они виделись всего один раз, когда старший брат приезжал за семьей.
Брат сказал, что Ленин заботится о бедных и что его большие люди помогают им. И сам он, Адар Токушев, тоже записался в большевики…
Измученная лошадь подымалась по камням, словно по лестнице. Борлай не видел тропинки, уносясь в прошлое, развертывавшееся перед ним, как цветистые поляны на этом пестром крутосклоне.
Пять лет огненные вихри кружились по Алтаю — то отряды буржуазно-националистической земской думы Кара-Корум, то колчаковский полковник Сатунин, то есаул Кайгородов, то какая-нибудь кулацкая банда. Хотя родная долина не раз переходила из рук в руки, но русские «горные орлы», с которыми сроднился Адар, не сдавались. Наоборот, накопив силы в укромных долинах, они наносили по врагу удар за ударом и освобождали село за селом, стойбище за стойбищем. Зайсану Тыдыкову и его приспешникам на некоторое время даже пришлось скрыться за границу.
В апреле 1922 года «горные орлы» вместе с эскадроном красной кавалерии перевалили через неприступный снежный хребет и ворвались в последнее гнездо белобандитов. В жарком ночном бою вражеская пуля свалила Адара с коня. Через два дня Борлай прискакал в село. На пороге дома деревенского торговца, где в те дни разместился полевой госпиталь, он столкнулся с высокой дородной русской женщиной. Ее круглое доброе лицо было усыпано крупными веснушками. Голову она повязала красным платком, так высоко и так тщательно подобрала волосы, что оголенные уши топорщились и под ними, как маятники, покачивались увесистые серьги — серебряные полумесяцы с петухами. Большие синие глаза казались печальными, как высокогорные цветы водосбора в ненастный день. Окинув Борлая пристальным взглядом, она спросила: