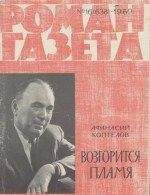Афанасий Коптелов - Великое кочевье

Обзор книги Афанасий Коптелов - Великое кочевье
Афанасий Лазаревич Коптелов
Великое кочевье
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Костер погас на рассвете. Плавно покачиваясь, последние струйки дыма скрылись за густым переплетом черных стропил. Мелкие угли покрылись золой, и в аил[1] спустилась утренняя прохлада.
Борлай Токушев откинул длиннополую шубу, поднялся с кровати, срубленной из толстых бревен и расположенной, как во всех алтайских аилах, за очагом, на женской половине. Он был одет в потертые штаны из козьей кожи, ситцевую рубаху с большой медной пуговицей. По обычаям предков, Борлай не снимал рубахи, пока она, изношенная в лохмотья, не сваливалась с плеч. Скуластое бронзовое лицо с крутыми бровями и широким лбом, перерезанным глубокой морщиной, не знало воды, Исстари в сеоке Мундус[2] все считали, что вода безвозвратно уносит счастье человека.
Борлай поспешно накинул на плечи продымленную шубу с волчьим воротником, низко надвинул на лоб круглую рысью шапку с малиновой кистью, опушенную мехом выдры. Он вышел на маленькую лужайку перед аилом, окруженную бурыми лиственницами — каждое дерево в три обхвата, и возраст его никому не ведом, — взглянул на зеленый пух молодой хвои, на голубой простор небосклона.
«Идут большие дни, погожие, спокойные. Месяц первых цветов налился здоровой силой, — отметил Борлай, взглянув на серебряный диск луны над лысой сопкой. — Самая пора кочевать. Луна полная, сильная, счастье принесет».
Он сходил на ближайший холм за единственной лошадью, вислоухой и пегой, будто молоком обрызганной, и не торопясь стал заседлывать ее.
Тем временем в аиле проснулся ребенок. Он кряхтел в берестяной люльке, стараясь высвободить руки из-под рваной овчины. Карамчи вскочила с постели. Взметнулись длинные полы чегедека,[3] который она, как все замужние алтайки, не снимала даже на ночь. Чегедек был сшит из дешевого плиса, оторочен радужными лентами, а по груди были рассыпаны красные шарики, связки голубых бус и белые ракушки, похожие на змеиные пасти. В пестрой россыпи терялись черные косы, унизанные монетами и крупными перламутровыми пуговицами. Мать сняла люльку с крюка и, присев на кровать, поставила себе на колени. Торопливо расстегнула чегедек и подала ребенку коричневый сосок с брызнувшим молоком. По круглому лицу ее разлилась улыбка, узкие глаза, опушенные густыми ресницами, заискрились радостью. Она не отрывала взгляда от пухлых щечек дочери.
Но вскоре грусть легла на лицо матери, и она, низко склонив голову над люлькой, чуть слышно запела:
В сыром ущелье выросший,
Голубой цветок
Увидит ли солнце?
В бедном аиле родившаяся,
Дочь моя
Увидит ли счастье?
Где-то близко послышались шаги.
«Это не муж — у него твердая нога», — подумала Карамчи и надела черную барашковую шапку: посторонний человек не должен видеть непокрытой головы замужней женщины.
Широко распахнув косую дверь, в аил вошла алтайка в старой барашковой шапке, в грязном чегедеке, в рыжих сапогах с крутыми носками. На груди ее блестели тщательно начищенные монеты. Годы бросили на лицо густую сетку морщин и глубокую усталость. Поредели черные брови, повыпадали длинные ресницы из воспаленных век, и поблекли когда-то полные, румяные щеки. Во рту торчала длинная трубка из лиственничного корня, опоясанная медным кольцом.
— Дьакши-дьакши-ба?[4] — тихо спросила гостья.
— Дьакши, — ответила Карамчи и глазами указала на козью шкуру возле очага. — У тебя все ли хорошо?
— Хорошо, — чуть слышно вымолвила та.
Хозяйка аила знала, что Чаных пришла с обидами на мужа, семнадцатилетнего Ярманку, самого младшего Борлаева брата, и ни о чем больше не спросила.
— Я верила, что он чист, как ясное солнышко, как цветок лесной, никем не тронутый… — запричитала гостья. Голова ее затряслась, а из глаз хлынули слезы. Трубка упала в золу возле очага.
Утирая ладонями дряблые щеки, Чаных крикливо жаловалась:
— Была бы женщина телом мягкая, не так обидно было бы. А то погнался за девчонкой суше тонкой головешки.
Карамчи достала из-за голенища кожаный кисет с листовым табаком, смешанным с березовой корой, набила трубку и подала гостье.
— Я думаю, что люди наврали про него. Он, муж твой, к отцу Яманайки просто в гости ездит, араку[5] пить. Сама знаешь, они соседи ваши…
— Я все знаю, — сердито перебила Чаных, глаза ее сразу высохли, в зубах захрустел черемуховый мундштук. — Он ездит к Яманайке. Вчера сам сказал, что у меня зубы валятся, что я скоро сдохну и тогда он женится на этой подлой девке.
Хозяйка захохотала нарочито громко, и на ее груди зазвенели украшения из медных пятаков.
— Этого никогда не будет. Яманай и брат твоего мужа из одного сеока Мундус. Все женщины в сеоке — всем мужчинам сестры. Кто ему позволит жениться на сестре?
Она подняла трубку выше головы, погрозила, будто молодой деверь сидел перед нею, и сказала строго и уверенно:
— Сеок Мундус не потерпит безумца. Если твой муж уйдет к Яманайке, то оскорбленный им народ засмеет его и навсегда прогонит с гор. Он не посмеет.
Женщины свято блюли неписаный закон кочевья и из уважения к мужчине не называли Ярманку по имени.
В аил входил Борлай. Он пригнулся, но все-таки стукнулся головой о притолоку и сдвинул шапку с бритого лба на затылок, где единственная прядь волос была заплетена в тонкую косичку.
Гостья быстро вскочила перед старшим родственником и в знак уважения почтительно погладила свои тощие косы.
— Собрались? Коней завьючили? — спросил Борлай.
— Кто далеко кочует, у того все казаны побиты, — робко напомнила Чаных известную поговорку и, скорбно вздохнув, тихо спросила: — Как мне кочевать с малыми детьми? Нет моего… Вчера опять уехал.
Карамчи подала мужу раскуренную трубку.
Через дымовое отверстие над костром Борлай посмотрел на чистое небо и сказал жене:
— Кочевать будем вместе с солнышком: оно тронется в свой далекий путь, и мы отправимся… Перекочевка в ясную погоду принесет счастливую жизнь.
Чаных с поникшей головой встала, левым плечом приоткрыла дверь, и тихо молвила мягким и певучим голосом, незнакомым даже родственникам, — видно, вырвались у нее заветные думы:
— Был бы жив мой первый муж, мы кочевали бы впереди всех, и ни солнечный свет, ни пылкие звезды не увидели бы слез на моих щеках.
Борлай вздрогнул и, обернувшись, крикнул вслед:
— О старшем брате не поминай! Не вороши золотые кости. Не серди духа умершего. У тебя есть молодой муж, о нем заботься.
Он взял берестяную сумину и стал укладывать ветхие кермежеки[6] и бесчисленные амулеты.
Завьючивая пегую лошаденку с большим животом и провисшей спиной, он сказал жене:
— Наш путь — в долину Голубых Ветров. Там травы густые да высокие — конь в них тонет! Скоту будет привольно.
В эту минуту он начинал верить, что та долина лучше Каракольской, где до сих пор кочевали они.
— За горами просторно, нет байских поскотин, вся земля будет нашей. Мы — сосед с соседом — за руки возьмемся, силу накопим, к счастливой жизни дорогу поведем.
Взглянул на запад. Под первыми лучами солнца полыхали ледяные вершины, устремленные в небо.
Разгорался веселый день.
2Сбор назначили на большой поляне, возле круглой сопки, похожей на огромную шапку. Мягкие склоны были охвачены волнистым пламенем весенних цветов, а по северной стороне шелковой кистью ниспадал шумливый березняк. Там виднелись устремленные к солнцу белокорые жерди с полуистлевшими шкурами сивых лошадей, принесенных в жертву Эрлику.[7] С холма открывалась вся долина. Стальной лентой блестела река Каракол, возле которой каменными островами лежали байские усадьбы. От долины подымались тесные урочища, усеянные хрупкими аилами из лиственничной коры, похожими издали на муравейники. Над многими становьями растаяли последние дымки: вереницы всадников, направляясь к холму, гнали коров и овец.
Лес наполнился шумом, нестройным гулом гортанных голосов. То там, то тут мужчины покрикивали на лошадей, которые останавливались пощипать сочной травы. Женщины убаюкивали детей. Обрадованно ржали кони, почуяв высокогорные просторы. Звенели тонкие голоса отставших жеребят. Громко мычали коровы, и без умолку блеяли овцы. Позванивали казаны во вьюках, гремели чашки и деревянные ведра в кожаных мешках.
Борлай пригнал свою однорогую корову с теленком. Сам он взгромоздился на лошадь поверх кожаных мешков с пожитками. На левом боку болталась берестяная сумина с кермежеками. На головке седла стояла люлька, которую поддерживал ремень, закинутый на шею седока. Держась за гриву завьюченного жеребенка, шла Карамчи в широкой и длинной шубе, в чегедеке и шапке. На ее лице выступил пот.