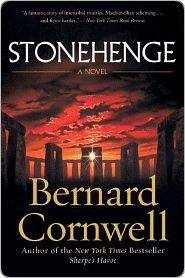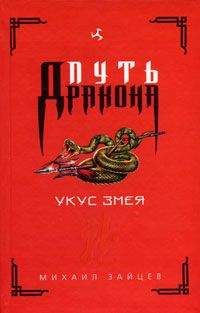Кейт Аткинсон - Боги среди людей
– Нет.
– Песенка военного времени. Ее распевали французские солдаты. – По теткиному лицу пробежала мимолетная тень… печали, наверное; и тут Иззи с радостью – столь же внезапной – сообщила: – Слова в ней – сущий кошмар. Про то, как ощипывают бедную птичку. Выкалывают ей глаза, выдергивают перья, ножки и так далее.
На той непостижимой и при этом неизбежной войне, которая близилась не по дням, а по часам, на войне Тедди, Четыреста двадцать пятая франко-канадская эскадрилья носила имя «Алуэтта». В феврале сорок четвертого, незадолго до последнего боевого вылета, Тедди совершил вынужденную посадку на канадской базе в Толторпе, с горящими двигателями: их подстрелили над Ла-Маншем. Ребята из Квебека дали их экипажу хлебнуть бренди – жуткого горлодера, который тем не менее все выпили с благодарностью. На эмблеме их эскадрильи была изображена птица, а под ней девиз: «Je te plumerai»[2], и он вспомнил тот давний день с Иззи. Воспоминания будто бы принадлежали кому-то другому.
Иззи сделала пируэт.
– «Жаворонки заливались в вышине»? – сквозь смех выговорила она.
Не это ли, подумал Тедди, имел в виду его отец, называя Иззи «на редкость неуравновешенной»?
– Что, прости?
– «Большие надежды». Неужели не читал? – (На миг ему, как ни странно, послышался голос матери.) – Шучу, шучу. Его ведь больше нет. Жаворонка. «Улииител. Тю-тю», – передразнила она дурашливым говорком кокни и легко добавила: – Я, между прочим, жаворонков пробовала. В Италии. Там их подают как деликатес. А в них и есть-то нечего. Так, на один укус.
Тедди передернуло. Мысль о том, что небесную птаху подстреливают в вышних сферах, что ее восхитительную песню прерывают на излете, повергала его в ужас. Через много-много лет, в начале семидесятых, Виола, поступив на отделение американистики, открыла для себя Эмили Дикинсон. Корявым, небрежным почерком дочь переписала первые строки стихотворения, которое, как ей казалось, должно было понравиться отцу (но скопировать короткий стих целиком поленилась).
Вскройте Жаворонка!
Там Музыка скрыта —
Лепесток в лепестке из серебра.
Удивительно, что дочка о нем подумала. Такое случалось редко. По его мнению, поэзия была одним из немногих увлечений, которые их сближали, хотя литературные беседы велись у них нечасто. Он решил отправить что-нибудь ей в ответ – стихотворение или хотя бы отрывок в несколько строк, просто чтобы поддержать переписку.
Здравствуй, дух веселый!
Взвившись в высоту,
На поля, на долы,
Где земля в цвету,
Изливай бездумно сердца полноту!
Или:
Чу! Слушай песни птиц – в них расцвела
Влюбленным похвала.
Или:
Небесный пилигрим и менестрель!
Иль кажется земля тебе нечистой?
Иль, ввысь взлетев и рассыпая трель,
Ты сердцем здесь с гнездом в траве росистой?
(Только ленивый не писал о жаворонках.) Наверное, дочка подумала бы, что он смотрит на нее свысока. По какой-то причине черпать у него знания было для нее неприемлемо, и он, поразмыслив, просто написал: «Спасибо за твое внимание».
Не успев прикусить язык – кольчуга хороших манер соскользнула, – он сказал:
– Поедать жаворонков стыдно, тетя Иззи.
– Это почему же? Ты ведь ешь курочку и прочую живность, правда? Какая разница?
В Первую мировую Иззи водила санитарный фургон. Зажаренная птица вряд ли могла разбередить ее чувства.
Разница огромная, ответил про себя Тедди, хотя невольно задумался, каков жаворонок на вкус. Хорошо, что Трикси заливистым лаем отвлекла его от этих мыслей. Он наклонился, чтобы приглядеться.
– Ты смотри-ка, медяница, – с видом знатока заговорил он сам с собой, на время забыв о жаворонках, осторожно взял свою находку двумя руками и предъявил Иззи.
– Змея? – скривилась тетушка. Видимо, змеи ничуть ее не привлекали.
– Да нет же, медяница, – ответил Тедди. – Это не змея. И не червяк. На самом деле это ящерица.
Золотисто-бронзовые чешуйки поблескивали на солнце. В этом тоже была красота. А что в природе не отмечено красотой? Даже слизни заслуживали определенного восхваления, но только не от его матери.
– До чего же ты смешной малыш, – сказала Иззи.
Тедди не считал себя малышом. С его точки зрения, Иззи, самая младшая из отцовских сестер, разбиралась в детях еще хуже, чем в зверях и птицах. Он не имел представления, с какой целью она его похитила. Как-то в воскресенье после обеда, когда он слонялся в саду и запускал вместе с Джимми бумажные самолетики, на него спикировала Иззи и заманила «на природу», под которой подразумевалась тропа, ведущая от Лисьей Поляны до железнодорожной станции, а вовсе не «горный кряж, речные воды». «Устроим себе маленькое приключение. Поболтаем. Это же здорово, правда?» И она сделала его пленником своих причуд, шла впереди и сыпала нелепыми вопросами: «Тебе доводилось проглотить червяка?», «Любишь играть в индейцев и ковбоев?», «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». (Нет. Да. Машинистом поезда.)
Он бережно вернул медяницу в траву и, чтобы утешить Иззи после недоразумения с жаворонком, решил порадовать ее колокольчиками.
– В лес придется идти лугом, – предупредил он, с сомнением глядя на ее туфли.
Похоже, они были сделаны из крокодиловой кожи, выкрашенной в ядовито-зеленый цвет, от какого открестился бы любой уважающий себя крокодил. Новехонькие, они явно не годились для походов по лугам. День клонился к вечеру, и молочное стадо, привыкшее считать этот луг своим, уже, к счастью, покинуло выпас. Крупные, тучные коровы с добрыми любопытными глазами были бы озадачены появлением Иззи.
Она порвала рукав, зацепившись за изгородь, а потом умудрилась вляпаться зеленой крокодиловой туфлей в коровью лепешку, которая бросилась бы в глаза кому угодно, только не Иззи. Немного реабилитировало ее перед племянником лишь то, что эти происшествия ничуть не омрачили ее завидной беззаботности. («Как я понимаю, – говорила позже его мать, – она просто возьмет перепачканные туфли и выкинет».)
Колокольчики, к сожалению, ничуть ее не заинтересовали. В Лисьей Поляне их ежегодное цветение воспринимали с таким же восторгом, какой у иных вызывают картины старых мастеров. Гостей торжественно вели в лес, чтобы они полюбовались бескрайним облаком голубизны. «Вордсворт писал о нарциссах, – говорила Сильви, – а у нас колокольчики». Колокольчики им не принадлежали, отнюдь нет, но собственничество было у матери в крови.
Когда они возвращались по тропе, у Тедди почему-то начался трепет в груди, похожий на ликование сердца. До сих пор звучавшая в ушах песня жаворонка и терпкий травяной аромат необъятного букета колокольчиков сплавились воедино, чтобы подарить ему миг чистого упоения, какой-то эйфории, которая будто намекала, что все тайны вот-вот откроются. («Где-то есть мир света, – твердила его сестра Урсула, – только его заслоняет мрак». – «Манихеянка наша», – любовно приговаривал отец).
Та школа была ему, конечно, знакома, хотя и понаслышке. Морис, брат Тедди, теперь учился в Оксфорде, но когда он еще был школьником, Тедди часто сопровождал маму («мой маленький опекун»), когда та приезжала на вручение наград и юбилеи учредителей, а раз в семестр – на какое-то мероприятие под названием «день открытых дверей», когда родителей допускали (хотя и не поощряли) к общению с отпрысками. «Не школа, а исправительный дом!» – фыркала мама. Вопреки поверхностному впечатлению Сильви отнюдь не была горячей сторонницей образования.
При всей своей верности родной школе отец всячески отнекивался от любых посещений этого места. Сильви объясняла отсутствие Хью разными причинами: большой загруженностью в банке, важными встречами, претензиями акционеров. «И так далее и тому подобное», – вполголоса заканчивала Сильви. «Возвращаться всегда тяжелее, чем идти вперед», – добавляла она в часовне под стоны органа, заводившего «Господь, Отец наш небесный».
Было это два года назад – вручение грамот в последнем семестре учебы Мориса. Морис был заместителем префекта, причем словечко «заместитель» злило его до невозможности. «Второй по старшинству, – кипел он в начале выпускного класса, когда ему дали это поручение. – Я вижу себя на первых ролях, а не на вторых». Он считал, что создан быть героем, который ведет других на бой, хотя в годы грянувшей войны буквально отсиживался за начальственным столом в Уайтхолле, где павшие в бою были для него всего лишь обременительными цифрами в таблицах. Тогда, в школьной часовне, жарким июльским днем тысяча девятьсот двадцать третьего года, никто бы не поверил, что новая война разразится так скоро. Еще не потускнела позолота на именах («наши выпускники, с честью выполнившие свой долг»), вырезанных на дубовых мемориальных досках в часовне. «Что им проку от этой чести», – гневно шептала Сильви на ухо Тедди. Первая мировая превратила Сильви в пацифистку, хотя и воинствующую.