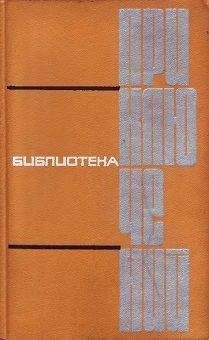Валентин Ежов - Горькая любовь князя Серебряного
Царь покачал головой.
— Эх, Федора, вот и сказалась твоя бабья-то натура. Пошто пугаешь меня убогого, недостойного, многогрешного?
Царь повел головой, и опричники, схватив обоих Басмановых, выволокли их за дверь.
Царь сошел с постели, перекрестился на образа.
— Ты зришь, Господи, сколькими я окружен и явными и скрытыми врагами! — Повернулся ко всем. — А теперь к делу. Я, чай, приемная палата полна людишек!
Он облачился в золотую парчу. Взял в руки свой узорный посох и величественно вскинул голову.
Перстень поднял шапку, прощаясь с окружившими его и князя Серебряного разбойниками.
— Ребятушки!.. Настал мне час расстаться с вами. Иду опять на Волгу, к дружку своему, Ермаку Тимофеевичу. Не поминайте лихом, коли я в чем сгрубил перед вами.
Перстень поклонился в пояс разбойникам.
— Атаман! — заговорила в один$7
— Идите с князем, ребятушки. Вы вашим дело с ворогом искупили вину свою перед царем! А князь не оставит вас!. |
— Добрые молодцы, — обратился к разбойникам Cеребряный. — Я дал царю слово не уходить от суда его. Теперь должен понести государю мою голову. Хотите ли идти со мною?
— А простит он нас? — спросил Решето.
— Это в Божьей воле. Не хочу вас обманывать. Что›: ж, давайте делиться: кто со мной — останься при мне, а кто нет — отойди в сторонку.
Разбойники загудели. Часть их, во главе с Решетом, начала отходить от Серебряного.
Пока они делились, князь спросил Перстня:
— А ты ни за что не пойдешь со мною?
— Нет, князь, я не то, что другие. Меня царь не простит, не таковы мои провинности!
— Жаль! — Серебряный крепко обнял Перстня.
— А где ж зазнобушка твоя, князь? — спросил тот.
Серебряный сник.
— Жду, пока Михеич подаст весть. Может, он в Слободе объявиться.
— Обожди здесь с недельку, боярин. Авось царь покрепче подзабудет вину свою!
Серебряный кивнул.
— Ты прав… Прости, атаман, и все ж жаль мне тебя, что идешь на Волгу. Не таким бы тебе делом заниматься!
— Кто знает, князь! Иван Кольцо сам себе дорогу избрал.
— Почему Кольцо? Ты же Перстень!
— Это здесь я Перстень, а на Волге я Кольцо. Бог не без милости, авось еще и услышишь про Ермака Тимофеича и Ивана Кольцо, князь! Авось и не всегда буду тем, что теперь!
И Перстень сверкнул своими черными глазами и белозубой улыбкой.
На высоком троне восседал Иван Васильевич Грозный. В полном царском облачении, опираясь на посох. Здесь же в палате толпились и его опричники.
Годунов, стоявший рядом, почтительно склонившись к нему, объявил по реестру:
— Литовские послы прибыли, государь! Бьют челом и хотят предстать пред твои светлые очи!
— Так уж сразу и предстать, — усмехнулся царь. — А сколько они моего посольского человека, Никитку Серебряного, морочили! Пусть обождут, а ты, Борис, веди с ними разговоры, да не спеши! Надеюсь, тебя они, не охмурят?
— Думаю, не охмурят. — Годунов тонко улыбнулся.
— Кто там дальше?
— Рязанский воевода.
— Зови.
Борис Годунов дал знак, двери открылись, и в приемную палату ступил воевода. Подойдя к креслу царя, он отдал земной поклон.
Между тем, неподалеку от маленькой часовни, под открытым навесом, двое опричников во главе с Малютой Скуратовым занимались необычным делом. Они зашивали в огромную медвежью шкуру Федьку Басманова.
Делая стежки огромной иголкой вдоль разрезанной на животе медвежьей шкуры, Малюта говорил:
— Мягкая шкура, свежая, кровушкой попахивает. — Федор Басманов со страхом смотрел на него из-под медвежьей головы. — Спляшешь перед царем, потешишь, авось, помилует!
— День и ночь плясать буду! — хрипло говорил Федька. — Не обижайся на меня, Григорий Лукьяныч! Замолви словечко перед царем.
— Замолвлю! — отвечал Малюта, затягивая швы. В палате Годунов склонился к трону царя.
— Кто еще? — спросил Иоанн.
— Торговые людишки от Москвы. Старшины черные сотен и слобод.
— Зови!
В палату вошли торговые люди. Старший из иих держал в руках огромное золотое блюдо, на которое были хлеб и соль.
Подойдя к креслу царя, все бухнулись на колен, ударились лбами о пол.
Царь милостиво отщипнул от каравая. Обмакнув в соль, положил кусочек в рот.
— Чего вы просите, аршинники? — весело посмотрел на их затылки Грозный.
— Батюшка, государь наш, пришли мы плакаться твоей милости! Будь нам заступником! Разоряют нас совсем твои служивые, весь доход забирают в казну! И еще совсем заедают с женами и дочерьми!
— Вишь, дурачье! — рассмеялся царь, обращаясь к; Годунову. — Они б хотели и жен, и товар при себе одних держать! А чем мои молодцы пробавляться будут? — подмигнул он опричникам. — Да чего вы расхныкались, — сказал старшинам. — Ступайте себе домой! Обещаю подумать про вашу печаль!
— Отец ты наш, дай Бог тебе многие лета! — закричали торговые люди.
В это время в палату вошел Малюта и, пройдя к царю, чего-то прошептал ему на ухо.
Царь кивнул головой, поднялся и пошел к выходным дверям.
Царь и все его близкие стояли на крыльце, том самом, с которого когда-то Федор Басманов наблюдал за нападавшим на Серебряного медведем.
А теперь сам Федор, зашитый в медвежью шкуру, плясал перед крыльцом, напевая себе в такт, кривляясь и кувыркаясь, чтобы изо всех сил угодить царю.
Опричники громко смеялись. Царь же смотрел на пляшущего медведя с легким пренебрежением. Затем кивнул Малюте, и тот сделал жест рукой куда-то в сторону.
И тотчас же во двор ворвалась свора огромных свирепых псов. Рыча, они набросились на „медведя“.
Тот бросился было бежать, но свора тотчас нагнала его, и „медведь“, рухнув на землю, исчез под кучей свирепых животных. Раздался нечеловеческий вопль и тут же оборвался.
Псы в клочья рвали „медведя“, кровь залила землю. Царь перекрестился и, повернувшись, исчез во дворце.
На другое утро к Морозову, который по воле царя остался в Слободе, явились два стольника с приглашением к царскому столу.
Когда Дружина Андреевич приехал во дворец, палаты уже были полны опричников, столы накрыты, слуги в богатых одеждах готовили закуску.
Зазвонили дворцовые колокола, затрубили трубы, и Иван Васильевич с благосклонным, приветливым лицом вошел в палату в сопровождении чудовского архимандрита Левкия, Василия Грязного, Бориса Годунова и Малюты Скуратова.
Приняв и отдав поклоны, он сел за свой прибор, и все за столом его разместились по чинам. Осталось одно пустое место, ниже Годунова.
— Садись, боярин Дружина! — сказал ласково царь, указывая на пустое место.
Лицо Морозова побагровело.
— Государь, — ответил он. — Стар я, государь, перенимать новые обычаи. Наложи опять опалу на меня, прогони от очей твоих — а ниже Годунова не сяду!
Все в изумлении переглянулись. Но царь, казалось, ожидал этого ответа. Выражение лица его осталось спокойным.
— Борис, — сказал он Годунову, — должно быть, уж я и в домишке моем не хозяин! Придется мне, убогому, забрать свою рухлядишку и бежать с людишками моими куда-нибудь подале! Прогонят они меня отсюда, калику перехожего, как от Москвы прогнали!
— Государь, — сказал смиренно Годунов, желая выручить Морозова. — Старые люди крепко держатся старого обычая, и ты не гневись на боярина. Коль дозволишь, государь, я сяду ниже Морозова; за твоим столом все места хороши!
Он сделал движение, как бы готовясь встать, но Иоанн удержал его взглядом.
— Да, — продолжал спокойно Иоанн, — боярин пот длинно стар, но разум его молод не по летам. Больно он любит шутить. Я тоже люблю шутить. Но с того дня, как умер мой шут Ногтев, некому потешать меня. Дружине, я вижу, это ремесло по сердцу; я же обещал не оставить его моею милостью, а потому жалую его моим первым шутом. Подать сюда кафтан Ногтева и надеть.
Морозов стоял как пораженный громом. Багровое лицо его побледнело, кровь хлынула к сердцу.
Он стоял молча, вперив в Иоанна неподвижный вопрошающий взор, как бы ожидая, что он одумается и возьмет назад свое слово. Но Василий Грязной, по знаку царя, встал из-за стола и подошел к Дружине Андреевичу, держа в руках пестрый кафтан, полупарчовый, полусермяжный, со множеством заплат, бубенчиков и колокольцев.
— Надевай, боярин! — сказал Грязной, — великий государь жалует тебя этим кафтаном с плеча бывшего шута своего Ногтева!
— Прочь! — воскликнул Морозов, отталкивая Грязного, — не смей, пес, касаться боярина Морозова, предкам которого твои предки в псарях и в холопах служили!
И, обращаясь к Иоанну, он произнес дрожащим от негодования голосом:
— Государь, возьми назад свое слово! Вели меня смерти предать! В голове моей ты волен, но в чести моей неволен никто!
Иван Васильевич посмотрел на опричников.
— Правду я говорил, что Дружина любит шутить? Слыхали — я не волен его кафтаном пожаловать!