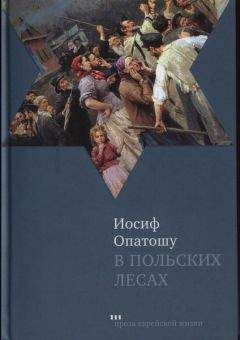Николай Гейнце - Герой конца века
— Среди Савиных не было не плативших долгов! — с гордостью говорил он.
Не это теперь беспокоило Николая Герасимовича. Нет, далеко не это!
Эта гордость рода, это отстаивание его чести со стороны его отца, разрешавшие так благополучно первый вопрос, неодолимой преградой восставали при разрешении в желательном для молодого Савина смысле второго вопроса, — вопроса о женитьбе его на Гранпа.
Брак с танцовщицей для Герасима Сергеевича несомненно представляется «неравным браком».
— Une messaliance! — даже вслух проговорил Николай Герасимович.
Селифонт, полуобернувшись, покосился на него, но в это время лошади въехали уже в аллею, ведущую к усадьбе, и он ударил вожжами лошадей, которые, дружно подхватив, крупною рысью понеслись в гору.
«Вот он и родительский дом! Что-то будет!» — пронеслось в голове Савина.
Коляска остановилась у подъезда.
XVI
МИЛЛИОНЕР В РУБИЩЕ
Буквально выкинутый сильною рукою Николая Герасимовича Савина в коридор Европейской гостиницы, Вадим Григорьевич Мардарьев долетел до противоположной стены широкого коридора и, упершись в нее обеими руками, удержался на ногах.
Первою мыслью его было исполнить свое обещание, данное в разговоре с Савиным, и закричать: «Караул, грабят!»
И он уже выкрикнул первый слог этого слова, но вдруг весь этот высокий, красивый коридор с полом, устланным прекрасным ковром, со спускавшимися с потолка изящными газовыми лампами и, наконец, появившиеся на его повороте двое изящных молодых людей — это были гости Николая Герасимовича — сомкнули уста Мардарьева и выкрикнутое лишь «кар» замерло в воздухе, как зловещее карканье ворона около помещения, занимаемого Николаем Герасимовичем.
Вадим Григорьевич быстро по стенке прошмыгнул по коридору, сбежал по лестнице, шагая чуть ли не через две-три ступеньки. Надев без помощи важного швейцара свое выцветшее пальто горохового цвета и такого же цвета помятый котелок, выскочил на улицу и пустился бежать сперва по Михайловской, а затем по солнечной стороне Невского проспекта, по направлению к Московскому вокзалу, точно за ним гнались призраки.
На ходу он что-то бормотал вслух и разводил руками.
Прохожие сторонились и некоторые останавливались, с любопытством смотрели ему вслед.
Стоявший у Аничкова моста на посту городовой подозрительно покосился на него, сделал даже несколько шагов, взявшись правой рукой за шнурок, на котором висел свисток, но затем, видимо, раздумав, махнул рукой и вернулся на свое прежнее место.
Мардарьев продолжал свой неистовый бег.
Перебежав Аничков мост, он в три, четыре скачка буквально перепрыгнул на другую сторону проспекта и, казалось, еще стремительнее побежал дальше.
Миновав Владимирскую, он, не доходя до Николаевской, повернул направо и скрылся под красной вывеской трактирного низка.
— Дядя Алфимыч здесь?.. — обратился он с вопросом к первому попавшемуся ему навстречу половому, одетому в белые рубашку и шаровары весьма сомнительной чистоты.
Половой нес на подносе около десятка чайников, держа его на одной руке и балансируя с искусством, которому позавидовал бы любой жонглер.
— Корнила Потапыч у себя.
— Один?
— Одни-с, — на ходу ответил половой.
Вадим Григорьевич прошел три комнаты трактира, наполненные посетителями, со многими из которых он приветливо и фамильярно или почтительно раскланялся.
— К дяде?
— К Алфимычу?
— К алхимику?
Такие вопросы раздавались с некоторых столов, и на них Мардарьев отвечал утвердительным кивком головы.
Наконец он очутился перед закрытой дверью четвертой комнаты трактира и остановился перевести дух.
Тут только заметил Вадим Григорьевич, что лицо его совершенно мокро, что пот капал с висков, и, вынув из кармана пальто нечто схожее с носовым платком — род четырехугольной квадратной тряпки, отер себе лоб и лицо.
Затем он тщательно стал одергивать на себе сюртук и пальто.
Приведя таким образом в порядок свой туалет, он робко взялся за ручку двери и полуотворил ее.
— Лезь, лезь… — послышался из-за двери шамкающий голос. Мардарьев вошел.
Четвертая комната низа трактира, выходившего на улицу десятью окнами, была самая маленькая, в одно окно — это был род отдельного кабинета, с одним столом, довольно больших размеров, стоявшим перед диваном, и одним маленьким для закусок, приставленным к стене, противоположной окну.
Диван и стулья, бывшие в комнате, были обиты когда-то зеленой, теперь совершенно облупившейся американской клеенкой; из дивана в нескольких местах торчала мочалка.
На диване сидел маленький невзрачный старичок, одетый в длиннополый сюртук и сапоги бурками. Сюртук был когда-то черного сукна. Но от последнего осталась от времени одна основа, пропитанная салом, пуговицы были самые разнокалиберные, оставшаяся и так сильно порыжевшая одна сюртучная была в совершенно несвойственной ей компании костяшек и даже одной медной солдатской, на шее старика был повязан шарф, когда-то красивый, но превратившийся от насевшей на него грязи в буро-серо-малиновый. Признаков белья заметно не было, и это было одно из достоинств этого костюма, судя по которому можно было предположить о состоянии этой части мужского туалета.
Но всего замечательнее было лицо старика: совершенно оголенный череп, украшенный бахромой рыжевато-седых волос, такие же волосы росли перьями, образуя род усов под крючковатым носом и на приближавшемся к последнему загнутом кверху подбородке, производя впечатление выщипанной бороды. Несколько считаемых единицами желтых зубов выглядывало из-под тонких губ при разговоре и улыбке или гримасе, которая исправляла ее должность.
Серо-желтые нависшие брови скрывали глаза, которые давали тон всему этому оригинальному лицу, — они были совершенно круглые, совиные, блестящие, с темно-зеленоватым отливом. Настоящий цвет этих глаз было невозможно уловить: они бегали из стороны в сторону, а во время отдыха, который хозяин порой давал им, он закрывал их.
Перед стариком стояли два чайника, стакан, наполовину налитый чаем, около которого на маленьком блюдечке лежал огрызок сахару.
В стороне стояла опорожненная маленькая трактирная миска с мельхиоровой ложкой и одна из тех тарелок, на которых в трактирах подают хлеб.
Это и был дядя Алфимыч, он же алхимик, или же, как почтительно произнес половой, Корнилий Потапович. Фамилия его была Алфимов, отчего и происходило первое прозвище «дядя Алфимыч»; кличка «алхимик» была дана старику, видимо, лишь по созвучию с его фамилией, но это не мешало ему очень на нее обижаться и долго помнить того, кто при нем решился даже шутя обозвать его так.
Потому на это решались немногие, так как немногие из знавших Корнилия Потаповича не были от него в зависимости.
Корнилий Потапович Алфимов был один из столичных и притом крупных пауков-капиталистов, раскинувших свои сети и на торговый, нуждавшийся в кредите мир приневской столицы.
Корнилия Потаповича, или дядю Алфимыча, знали и крупные купцы, и блестящие франты. Для первых это знание было роковым, оно было всегда началом конца торговых оборотов. Вторых дядя Алфимыч, запутывая в тенета, если не спасали их богатые и сановные родственники, нередко доводил до скамьи подсудимых.
Кроме двойных, тройных и даже четверных векселей, он практиковал и заведомо подложные, чтобы держать свою жертву не только под мечом гражданского, но и под мечом уголовного закона.
Таков был Корнилий Потапович Алфимов.
О его прошлом и о его средствах, которыми он нажил свое колоссальное состояние, не было известно ничего положительного.
Об этом ходили лишь легенды.
Одна из этих легенд была наиболее правдоподобной.
Рассказывали, что Корнилий Потапович был крепостной дворовый человек очень богатых помещиков, носивших фамилию Алфимовских, которую в некотором сокращении получил и он. Побочный сын предпоследнего в роде, он воспитывался вместе с законным сыном своего барина, молодым барчуком, к которому, когда тот подрос, был приставлен в камердинеры.
Он был скорее друг, нежели слуга.
Молодой Алфимовский служил затем в Петербурге, женился на красавице, которая умерла в родах, оставив на руках отца дочь.
Молодой муж остался неутешным вдовцом и вместе с Корнилием вырастил девочку, воспитал и образовал ее при помощи лучших гувернантов и учителей.
Молодая девушка в восемнадцать лет была красавицей — вся в мать, — влюбилась в одного из своих учителей и бежала из родительского дома, похитив у отца из шифоньерки более ста тысяч рублей в банковых билетах на предъявителя.
Отец, ослепленный любовью к дочери, не замечал домашнего романа, окончившегося такой катастрофой, но зоркий Корнилий следил за влюбленными.