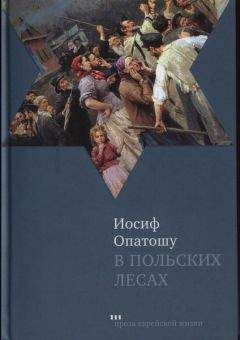Николай Гейнце - Герой конца века
К «барину» шли из села все со своей нуждою, с просьбой, за разрешением «спора с суседом», и все делалось, как рассудит «барин».
Сохранилось в полной силе, если можно так выразиться, «нравственное крепостное право» или лучше сказать все, что было в нем, то есть в подчиненном отношении, хорошего крестьянина к хорошему помещику, идеально-правового, основанного на их взаимной пользе, барин, как интеллигент, вносил в темную массу знание, как капиталист, давал беднякам деньги, а крестьяне платили ему работой.
В Серединском не было при Герасиме Сергеевиче «ряды на работы». Что «барин положит» — было мерилом, и барин не обижал, платя даже более высокую плату с процентом доходности.
Крестьяне понимали, что с ними поступают «по-божески», и сами следили друг за другом на работе и за ее исполнением.
Село и усадьба, несмотря на то, что господа пребывали в ней только половину года, жили одною жизнью, радовались одною радостью и печалились одною печалью.
Немудрено, что известие о том, что молодой барчук отслужил и едет к родителям, волновало не только домашнюю прислугу, среди которой были почти все бывшие крепостные люди Савиных, оставшиеся после воли тоже без всяких условий найма, на основании стереотипно обращенной к барину фразы: «не обидите», но и всех крестьян села Серединского.
Наконец в последних числах сентября, рано утром, по селу сперва проехал шагом экипаж, посланный встретить «молодого отслужившего барчука» на ближайшую станцию железной дороги.
Хотя крестьяне знали, куда едет экипаж, но все же многие из них выходили из своих изб и вопросительно кричали знакомому им кучеру Селифонту:
— За барчуком?
— За ним самим… — откликался кучер, вынимая носогрейку и сплевывая в сторону.
Таких вопросов, пока он проезжал по улице села, было более десятка. Только и слышалось:
— За барчуком?
— За ним самим…
В иных местах возгласы варьировались прибавлениями:
— С Богом!
— С Христом!..
Последний возглас принадлежал бабам, почему-то любящим эту форму пожелания.
Наконец экипаж выехал за околицу села и скрылся из виду.
Не говоря уже об усадьбе, во всем селе наступили часы ожидания.
После завтрака Фанни Михайловна прошла вместе с мужем в его кабинет. Она пробыла с ним с глазу на глаз около часа и вышла расстроенная, с заплаканными глазами, видимо, не смягчив его гнев на сына.
Она прошла в молельню, где пробыла тоже с час времени и как будто бы успокоилась… Она почувствовала, что молитва ее услышана и не ошиблась.
За обедом Герасим Сергеевич, все время, до выхода за стол, остававшийся в своем кабинете, сказал ей первый:
— Успокойся, я не буду резок… Я не согласен только на одно — на брак.
Фанни Михайловна с благодарностью посмотрела на мужа и на ее губах заиграла, исчезнувшая было за последние дни, ее обыкновенная добродушная улыбка.
После обеда до приезда сына оставалось уже несколько часов. Ажиотаж увеличивался.
Зиновия Николаевна тоже волновалась в последние дни.
Прежде всего она молчаливо сочувствовала «тете Фанни», как звала она Фанни Михайловну, в романической стороне вопроса о будущности ее сына.
«Почему ему нельзя жениться на такой хорошей, прелестной и честной девушке? — Фанни Михайловна описала ей Маргариту Гранпа по письмам сына. — Только потому, что она танцорка — это отсталое понятие… Ах, какой дядя… отсталый», — думала гимназистка-медальерка.
Впрочем, ее волновал еще и самый приезд Николая Герасимовича, которого она почти не знала, видела мельком в Москве, но о котором слышала от той же Фанни Михайловны столько восторженных описаний его красоте, уму, ловкости и молодечеству.
Она знала его жизнь во всех мельчайших подробностях, конечно, впрочем, ту часть ее, которую он не скрывал от матери в письмах, начиная от любви семилетнего Коли к француженке-бонне и некоторых из петербургских похождений последнего пребывания его в этом городе.
— Золотая, но горячая голова!.. — восклицала восторженно Фанни Михайловна. — Если умная, хорошая женщина сумела бы взять его в руки, он был бы прекрасным мужем, я в этом более чем уверена.
«Отчего я не могу быть этой хорошей, умной женщиной», — мелькала мысль в головке Зины, но она быстро отгоняла эту нелепую мысль.
Имело также большое значение для нее, что молодой Савин ехал из Петербурга.
Последний — в нем Зина никогда не была — рисовался ее воображению почти волшебным городом.
Там жили и живут выдающиеся литераторы, там источник знания для женщин: женские медицинские и другие высшие курсы.
«Высшие женские курсы есть и в Москве, — думала Зиновия Николаевна. — Но это не то… Там, как в университете…»
В Петербург Зина стремилась всеми своими помыслами. Ей страстно хотелось сделаться «женщиной-врачом», но дядя Герасим Сергеевич, когда она высказала ему это желание, даже рассердился:
— Замуж я тебя отдам… Довольно учена… И от твоей учености, если муж не сбежит, скажи слава Богу…
«Ах, какой же дядя… отсталый…» — мелькнуло в ее уме.
Так рушились ее мечты о медицинском образовании, но Петербург все же остался для нее обетованной землей.
И вот оттуда едет сюда этот красивый, умный человек… Золотая, но горячая голова…
Сердце Зины усиленно билось. Она сама не знала отчего.
Она понимала, что сердце молодого Савина занято, что она, бедная девушка, безвестная Зиновия Богданова, не может быть для него той «хорошей, умной женщиной», которая должна составить его счастье, что это удел той… танцорки… — и все-таки ожидала его с каким-то все более и более усиливающимся волнением.
Это было просто волнение молодой крови — дань известному возрасту, а Зина толковала его иначе и недоумевала.
Время шло, как это всегда бывает, в ожидании, томительно долго.
Было уже около шести часов вечера, а экипаж еще не показывался.
Зина несколько раз бегала на бельведер с биноклем, но на почтовом тракте не появлялось черной точки, которая могла бы вырасти в ожидаемую коляску.
В начале седьмого, когда уже стало смеркаться, новая астрономка, наконец, открыла ехавший по дороге экипаж.
— Едут, едут!.. — с криком сбежала она с бельведера. Этот крик всполошил весь дом, но был преждевременен. Николай Герасимович был еще верстах в трех от села.
Он приказал ехать тише и задумчиво сидел, откинувшись в угол покойной венской коляски.
Савин был в штатском — дорожном пальто и черном котелке.
— Тише, тише! — приказывал он кучеру, хотя тот почти и то уже ехал шагом.
Казалось, ему хотелось отдалить свидание с отцом и матерью и не так скоро увеличить расстояние, лежавшее между ним и оставшимся позади Петербургом.
Мысли его неслись из последнего в Серединское и обратно.
В Петербурге он оставил все, что было дорого для него в жизни — Маргариту Гранпа.
В течение почти трех месяцев он все собирался в деревню, но не мог решиться расстаться с маленькой, уютной, казавшейся ему очаровательной, квартиркой бабушки Бекетовой, где каждый день проводил с Марго два-три часа наедине.
Это были часы того неизъяснимого на словах и неописуемого пером блаженства. Скорее его может передать кисть или карандаш художника.
Это было блаженство влюбленных.
С этими-то часами блаженства и не решался расстаться Николай Герасимович.
Наконец в начале сентября вышел приказ об его отставке и, переждав еще почти три недели, Савин написал сперва, как известно, письмо, а затем в конце сентября выехал из Петербурга.
Он припомнил теперь свое прощанье с Марго.
Это был тяжелый момент для обоих.
«Это необходимо для нашего счастья!» — повторял он мысленно и теперь ту фразу, которую сказал ей тогда, но между тем сердце его, как теперь, так и тогда, болезненно сжалось. Точно какое-то страшное предчувствие, что он теряет ее навсегда, а теперь с каждым шагом лошадей все более и более удаляется от нее — закралось в его сердце.
— Тише, тише!.. — невольно крикнул он кучеру.
— Да что вы, барин, и то почитай шагом едем, — обернулся к нему, не выдержав Селифонт, — папенька с маменькой чай заждались совсем, глаза все с вышки проглядели…
— Ну, хорошо, хорошо, поезжай, как знаешь, — отвечал отрезвленный таким замечанием кучера Савин.
Они проезжали по селу, и Николай Герасимович отвечал на поклоны вышедших из изб крестьян.
Мысли его между тем под впечатлением слов Селифонта перенеслись в Серединское.
Его там ждут — в этом он не сомневался, но что ожидает его там — вот вопрос.
Относительно наделанных им долгов он был спокоен, он знал своего отца, честь имени Савиных может заставить его снять с себя последнюю рубашку, он пожурит его и заплатит, заплатит все до копейки.