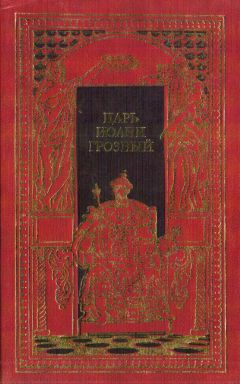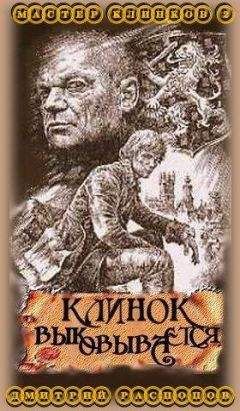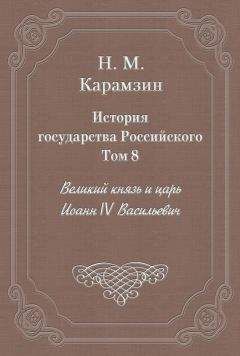Лев Жданов - Царь Иоанн Грозный
А для укрепления власти в эти давние времена был один прямой путь: везде и всюду «своих» людей насажать, и земель побольше, и угодий, и денег, и почету тем доставить, кто и мечом, и словом в трудную годину подсобит, выручит…
Шуйские своих тянут, Бельские – своих…
Сперва Шуйские одолели. Но году не прошло, как умер Василий, старший воинственный брат, герой литовского похода: от гнева ярого ударом скончался старик.
Иван Шуйский ему наследовал как глава рода. Тут и окрепли Бельские. Патрикеевых к себе, Хабаров, Иван Ивановича прилучили. Тучковы-бояре с ними же… И стали везде своих друзей сажать.
Было положено начало смуте еще в 1538 году, при Данииле-митрополите. Собрались, сговорились тогда Шуйские… Напали на Бельских с ихней дружиною… Кого по тюрьмам рассадили, кого в деревню выслали. А дьяка Мишурина, ближнего слугу покойного царя Василия, прямо без приказу государева нагим раздели и голову прочь! Тут же у тюрем, где Бельский был засажен. Даниила на житие в дальний монастырь выслали, а на его место Иоасафа поставили.
Выше мы видели, что думал год спустя, в 1539 г., митрополит Иоасаф, хотя и поставленный Шуйскими, но не любивший их.
Летом же 1540 года, то есть еще год спустя, когда десятилетний царь пришел в один из больших праздников с митрополитом здороваться, тот ему и сказал, подавая какую-то бумагу:
– Прочти, государь… Что молвишь?
Прочел Иван, заблестели глаза. Уж многое он ясно понимать стал, не по годам даже.
– Бельского на волю пустить? Господи! Да конечно! Все же я обиды такой от него, как от Шуйских, не знал и не видел… Да как Шуйские? Разве позволят? Вон дядя Иван и меня самого, было, раз чуть не прибил… Никого близко не нашлось… заступиться было некому, так он…
– Ничего, государь. Теперь на них, на Шуйских, все! Больно они каждому, – простым и вельможным людям, – больно солоно достались. Подписывай с Богом… Найдем, как дело сделать…
Подписал Иван, отдал и от радости даже руку пастырю облобызал.
– Праздник для меня нынче истинный…
– Вижу! Не заросли плевелами семена добрые в сердце твоем, чадо! Бог помилует тебя за это!
И Бельский неожиданно был освобожден.
Зашипел от злости Шуйский. Но дознался, что тут митрополита рука, отступился. Даже на совет государев ездить перестал. Дальше вести борьбу духу не хватило. Далеко ему до покойного дяди, Василия Шуйского.
А там, у царя, и рады, что не видно злого гордеца…
Скоро новая беда постигла Шуйского с присными.
Прибежали к нему приспешники из дворцовых, продажные души, да и говорят:
– Плохо дело твое, боярин! Чего только бояре Бельские и Захарьины и Патрикеевы задумали да у царя молодого выпросили! Андрею, князю удельному Старицкому, жене его, тетке твоей, сыну их Владимиру – всем темницу раскрыли. На ихнем дворе старом, в Кремле, на воле и жить государь повелел… Только не отъезжать никуда да на светлые очи царевы покуда не показываться.
Потемнел Шуйский, а сам криво так улыбается.
– Ничего. Еще поглядим-посмотрим, чья возьмет? У отца моего кобылка была, без меры ела и пила, пока не лопнула. На свою голову литовский «волчонок» волю забирает да врагов своих лютых на волю пускает. Что дальше? Поглядим!
А дальше – больше пошло.
С митрополитом, с боярами заглянул Иван в одну из мрачнейших тюремных келий особой, крепкой палаты, где много-много лет в тяжелых оковах сидел Димитрий, удельный князь Углицкий. Юношей посадили князя. А теперь дряхлый старец угасает в тюрьме…
Таков уж обычай был у московских великих князей в годы возвышения Русского царства: как воцарялся новый князь, так дядьев, братьев, всех ближайших соперников, всех родных, которые могли бы за престол в спор вступить, скорее таких по тюрьмам да в схиму сбывали…
Сжалось сердце у мальчика, когда он увидел дряхлого князя Димитрия, родича своего. Волосами узник оброс… Борода как у лесного отшельника. От воздуха спертого, тяжкого желтый лицом старик, как остов, худ и страшен.
Сказали ему, кто пришел. Совсем отвыкший от мира и от людей, полуодичалый старец поднялся и, гремя цепями, отвесил поклон юному великому князю.
Вздрогнул от звука этих цепей мальчик. Сам быстро-быстро Вельскому зашептал:
– Снять… снять с него эти цепи скорей… прошу тебя, князь.
Дал знак боярин, живо расклепали наручники, ножные кандалы сняли.
Старик стоит не шевельнется. Словно и не ему милость оказана.
– Что мне сделать? Как порадовать его? – шепчет снова мальчик боярину.
– Сам подумай… Его спроси…
– Да, да. Князь Димитрий, чего хочешь? На волю? Или чего? Скажи… Я все сделаю…
– Ты кого… спра-шиваешь? – с трудом, отвыкнув почти от членораздельной речи, зашамкал старик. – Димитрия, князя Углицкого? Так нету его… Давно помер! А мне, рабу Божию, ничего не требуется. Смерти жду… Скорее бы пришла… Да вот разве, Псалтирь новый… Затрепал я свой… Хоть и так весь знаю, да все лучше бы… А больше ничего… Жизни не вернешь мне… А без нее и свобода мне ни к чему… я здесь прижился…
И умолк. Снова стоит, словно мощи живые…
Вышли тихо все, как из склепа могильного, из кельи той тюремной…
Послал Иван старцу лучший, любимый Псалтирь свой и другие книги божественные… И от стола посылал блюда. Но сравнительная свобода и радость, после полувека страданий, словно подкосили последние силы старика, и он тихо угас, все время почему-то твердя:
– Не столько радости будет о девяноста девяти праведниках, сколько об одном раскаявшемся грешнике.
И так затих.
Но еще это не все. По дальнейшему «печалованию», по просьбам Иоасафа, дозволил царь дяде Андрею с женой и детьми на Святой Рождественский вечер во дворец прибыть, за стол его с собой посадил. И здесь великую милость явил.
После трапезы подозвал дядю и говорит:
– По доводу святого отца-митрополита, с решения царской думы нашей и нашим хотением, возвращаются тебе, государь-дядя наш, князь Андрей Иванович Старицкий, все уделы твои, как дедом Иваном еще было жаловано. Отпускаются вины и измены прошлые, а напредки тебе нам верой и правдой служить, как крест целовал.
Сказал, а сам горит, лицом зарделся весь, исподлобья выглядывает, в лица окружающих всматривается: так ли, хорошо ли, складно ли сказал, все ли упомнил, что митрополит да бояре ему сказывали? И видит: ропот хороший кругом пошел… Старики головами кивают. Молодые между собой перешептываются… Значит, все хорошо. От восторга даже слезы невольные выступили на глазах самолюбивого, чуткого мальчика.
И все так хорошо пошло, да недолго, жаль. Году не прошло, а 3 января 1542 года гроза нагрянула, все от того же повета, от двора Шуйского. Извелся князь Иван Шуйский, думу думаючи. Сердце одна мысль только и жжет: растет, крепнет царь Иван. Говор про дела ребенка милосердного в народе пошел. Раньше словно и не знали на Руси об Иване Четвертом, царе-отроке. А теперь, где тот ни появится, толпа собирается. Здравствуют, многая лета кричат… Еще два-три года так пойдет, и с «волчонком» вовеки не справиться. Бельские совсем одолеют, хоть на Литву всему роду Шуйских уходить… Не может быть этого.
Решился тут Иван Шуйский на последнее. Из Владимира, где жил теперь после опалы князь, засновали гонцы. И в Москву скачут к заговорщикам-боярам, к друзьям Шуйских, к недовольным новыми порядками… И в Новгород, в прежнюю вотчину Шуйских, в былой вольный город вечевой вестники поскакали…
Все новгородцы на клич сошлись. В ночь со 2 на 3 января Шуйские в Москву прибыли, в город проникли. И триста человек с ними дружины, сильной, на все готовой, оружием увешанной…
Сторожа во дворе Вельского кто спал, кто подкуплен был, других – сразу захватили: крикнуть, тревогу поднять не дали.
Проснулся, вскочил Бельский, когда уж в соседней горнице шаги раздались.
– Кто там? Ты, Алексеич? – спрашивает.
Думает: дворецкий по делу какому спешному. А уж полночь пробило давно.
– Василич, а не Алексеич! – вбегая со своими приспешниками, крикнул Шуйский.
Опомниться Бельский не успел, к оружью не поспел кинуться, как уж связан был, кой-как одет, в телегу брошен и вон из Москвы с рассветом вывезен. В заточение далеко увезли его, в крепость на Белоозеро… А потом, чтоб совсем спокойно спать, поехали в мае туда трое холопей Шуйского и удушили князя. На сеновале спрятался он было… Здесь и нашли его, в сено сунули головой, сами навалились сверху, пока не задохся несчастный. Князя Петра Щенятева и Хабарова Ивана, вдохновителей Вельского, тоже забрали, по городам рассадили.
В испуге вскочил юный царь Иван, крепко спавший давно, когда влетел к нему бледный, окровавленный весь Щенятев-князь… А за ним и новгородские буяны, пьяные, срамные, с криком да гомоном, в шапках, к Ивану в покой ворвались… Не было довольно стражи во дворце.
– Стойте, холопы… Что вы?! Как вы смеете? – крикнул было царь.
– Ишь ты: холопы! Как поет! Тоже приказывает! Молод еще. А мы и сами с усами, гляди: нос не оброс!