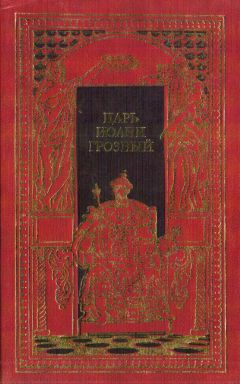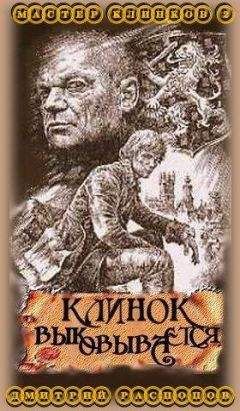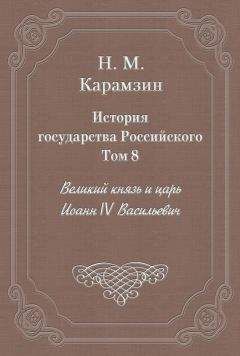Лев Жданов - Царь Иоанн Грозный
– Ее? Зачем? Кто смеет?! Не троньте ее… Моя мамушка и ничья больше! – начиная дрожать, звонким, рвущимся голоском стал выкрикивать ребенок.
– Да ты не тревожься, государь! – выступая вперед, мягко, вкрадчиво стал уговаривать Иван Шуйский мальчика. – Твоя она мамушка, и будет так. Сама же похвалялась, что знает бабу, которая твою усопшую родительницу испортила! Помяни, Господи, душу княгинюшки… Так теперь на очи надо их для правды друг дружке поставить… Для твоей же пользы государевой, по царскому твоему велению и по Судебнику.
Мальчик уже знал, что Судебник нечто важное в государстве, чему и властитель порой покоряться должен. Но слезы и растерянный, напуганный вид мамки лишали его всякого соображения.
Обхватив ее руками, он решительно сказал:
– Не дам! Сюда эту бабу ведите… Пусть здесь судят…
– И того нельзя, невозможно никак, господине. У владыки-митрополита, на очах его суд идет… Так и дойти там должен до конца… Отпусти мамушку на малый час… Она ведь не ребенок малый, поймет, что волей-неволей, а надо идти… сама пойдет… Пусти ее…
– Нет, не пущу! – крикнул еще громче мальчик.
– Не пускай, не давай! – взмолилась, рыдая, Челяднина.
Но одним сильным движением оторвал Шуйский Василий рыдающую женщину от ребенка и отшвырнул ее к двери… Там уж ждали, подхватили, мгновенно увели ее… Ушли и бояре, пропустив к ребенку Анну Глинскую, бабушку его. Стояла до сих пор старуха за дверьми в смертельной тревоге, но не смела войти…
Долго старалась привести в себя исступленно рыдающего и вздрагивающего всем телом внучка старуха… Так и заснул он опять на своей постельке, обессилев от слез и судорожных рыданий.
А Челяднину и Ивана Овчину настигла их злая судьба. Первую быстро постригли и заключили в далекий, суровый по уставу Каргопольский монастырь. Второго же забыли в том каменном мешке, куда посадили боярина, сведя несчастного чуть не с самого трона… И вспомнил о нем только Бог: на десятый день послал за душой Ивана вестника своего… Умер голодной смертью всевластный любимец Елены… С искусанными, изгрызанными до костей руками вынут был долго спустя труп конюшего, первого боярина московского, из темной глубины каменного мешка, что у Ризположенских ворот[5].
После описанного здесь пережитого отроком-царем тяжелого мгновенья настало некоторое затишье, хотя сравнительно и очень краткое… Да и то тоскливо тянулись теперь дни юного Ивана Васильевича. Главный боярин, Василий Шуйский, и дядьку прежнего согнал от царя, своего человека приставил… чтобы доносил тот: кто и с чем без Шуйских самих к государю заявляется?
Ничего не сказал на это притихший, напуганный мальчик. Молчал, думал больше, глядя в цветные оконницы дворца на проходящий и мимоедущий вольный торговый и ратный люд. Верил Иван: все они готовы голову за него сложить… Но как добраться туда? На эту площадь людную? Как сказать? И ребенок в голове складывал свои жалобы, речи целые вспоминал, что говорили ему и мать-покойница, и Овчина, и Аграфена – все, словом, кто толковал ему о величии его царском. И что теперь сталось?! На советах дворцовых домашних и в большой думе, где сажали его на место царское, во время приемов посольских пышных он уж привык молчать. Но раньше мама слово скажет… Ваня Оболенский-Телепнев… Все люди, любившие его… И верил Иван каждому их слову… а теперь? Нет, никому не верит он… А сидит молчит. Не знает, как ему самому речь начать. Запугали его. Вон вчера как играл он в спальне великого князя покойного с братом Юрой и с Евдокией… Свободно, светло там… И Шуйский Иван дочь проведать сюда же пришел. Разлегся на лавке… и нога на кровати, на отцовой, на царской… А раньше самые важные бояре, входя сюда, и стояли-то голову опустя, вот как в церкви стоят… А Тучко, боярин, из князей Курбских… Скарб мамушкин, княгини Елены, для чего-то перебирали они с Шуйскими… «Надо решить, говорят: что – куда? В большую ли казну или малую? Или в терему, в похоронки…» Раскидали охабни, душегреи ее, в которых еще так недавно, балуя ребенка, царица сына кутала. И Тучко-боярин швыряет милые вещи концом сапога. «Это, говорит, старье… Хлам… нам не надобно!» Кому «нам»? Мамины были вещи, значит: его теперь, царя Ивана, они!
Думает ребенок все о том, что видит, и молчит.
Повадился он в Чудов монастырь, в митрополичьи покои ходить. Сперва к Даниилу, а потом и к Иоасафу… Тихо там, хорошо, лучше, чем во дворце теперь великокняжеском, стало… Ни Шуйских, ни Тучкова, ни Бельских – никого из обидчиков здесь не видать.
А если и приходят, так чинно, тихо себя ведут, вот как при матушке, при великой княгине, покойнице… Как, верно, и при отце Ивана себя вели… Что же, разве если мал он еще, так и не царь? Неправда… Он им всем владыка!
Рад малютка, что принимает его ласково Иоасаф. Спросит только Ивана после взаимных приветов:
– Что, государь, как наставник твой и духовник, отец протопоп Благовещенский: доволен ли тобою? А, Ваня? К Слову Божию прилежен ли? Скажи, чадо.
– Прилежен, святый отче! – отвечает мальчик, бойко глядя доброму владыке в глаза.
А глаза у того ясные и все окружены морщинками. Но это нравится Ивану.
Что еще особенно нравится здесь ему, это столбцы писаных хартий и стопки тисканых книг, которые везде по келье у владыки разложены. Поглядит, поглядит царь да и скажет:
– Благослови, владыко, в книжки да и в столбцы почитаться…
– Бог благословит… Да разберешь ли ты только книги мои? Ну, скажем, Библия… Апостол… А то ведь и эллинская премудрость попадается… Непристойного не поймешь ты, мал еще, государь! А и пристойного, гляди, не поймешь…
– Пойму, отче! – бойко отвечает Иван, не робеющий, не глядящий здесь волком, не молчаливый мальчик, а ребенок, каким надо быть в девять лет… – Все пойму… Особливо скажи: что про царей где есть? Все мне про царей знать хочется…
– Да что же тебе?
– Да все… Как жили… воевали… людей судили… Как их люди слушали… а они карали за непокорство, за невежество…
– Ого-го! Вон оно куды пошло… Ну, читай… Вот Книга Царств… А то – Титуса Ливиуса на нашу речь перетолковано… Читай, поучайся…
И жадно по целым часам читает мальчик… И про Александра Македонского, и про Августа, и Юлия Цезаря… И про судей еврейских и царей, перед которыми трепетали, которых все боялись, даже беззакония творящих… Читает Иван, благо, правители-бояре и не заботятся: где и что государь?
– А не поздно ли? Шел бы домой… С братом побыл бы, с сестрицей Дунюшкой…
Покорно встает, прощается мальчик. А сам говорит:
– Святый владыка: скучно мне с ними… Девчонка сестра… И роду не нашего… Шуйских она… А брат… Какой-то он… и не пойму я… Есть бы ему только да рюмить, чуть что… А я бы, кабы воля моя, умер бы, а не заплакал… Иной раз и сам не рад, что плакать приходится…
Гладит его по голове старец и говорит:
– Терпи, Ваня… Всем нам плакать приходится здесь на земли… Сам Господь Бог, Христос Спаситель мира, здесь во плоти терпел, не слезы – кровь из глаз лил… Терпи, дитятко… Иди с Богом! Бог защитит тебя!
Благословит и отпустит.
И легче на душе сделается у мальчика… Словно просветлеет там…
А во дворец вернется – снова душа замутится, закипит досада, обида в груди. Уж наверное кто-нибудь чем-нибудь да затронут все, самое дорогое ребенку… А в памяти столько злобы, обиды и горя, что довеку не забыть… И опять сожмет губы, замолчит, волчонком ходит и глядит девятилетний великий князь московский Иван Васильевич. Так и прозвали «волчонком» его, кто смел это слово сказать. А митрополит-старик, по уходе ребенка-царя, сидит и думает:
– Чудно́е дитя государь наш малолетний… Чует детская душа, что невзгода и на него, и на Русь пришла… Да что поделаешь? Как оборонять и царя, и землю? Он мал, бояре сильны и грозны… Потерпеть еще надо… Э-хе-хе… Да, надо, надо терпеть, пока Бог грехам терпит… Вот хоть бы насчет силы боярской, сдается, скорпии сами себя с хвоста грызть починают… Вишь, как нужно было им Овчину да со всеми его присными убрать, так Шуйские и Бельских наперед поставили… Из тюрем, из неволи их повыпускали… Мол, все пополам! А как медведя-то свалили, пришла пора шкуру делить, – гляди, сами зубы друг на дружку оскалили… Боярам Бельским одоление Господь бы послал. Все же люди, не хищные враны, как эти Шуйские… Василий Шуйский погрознее, да стар и хвор… А Иван – та гадина опасная, хитрая… Ну да что там?! Что было, то видели; что будет, поглядим еще… На все воля Господня…
Вздохнул и за книги свои принялся.
Старик ясно видел, в чем горе для Руси.
Каждый из союзников, какими явились два знатнейших рода – Бельских и Шуйских – пожелал прочнее в свои руки власть забрать, если не совсем, то хоть до того времени, когда государю пятнадцать лет стукнет и, согласно завещанию родительскому, снимется с него опека боярская, сам володеть всем начнет, как предки правили…
А для укрепления власти в эти давние времена был один прямой путь: везде и всюду «своих» людей насажать, и земель побольше, и угодий, и денег, и почету тем доставить, кто и мечом, и словом в трудную годину подсобит, выручит…