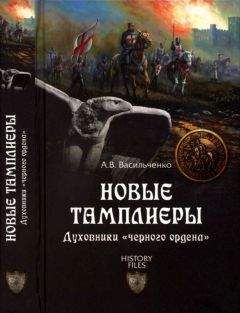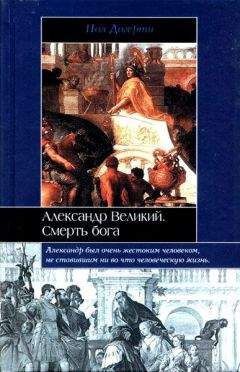Марк Алданов - Истоки
— Ваша светлость думает, что революционное движение в России имеет шансы на успех?
— Революционное движение имеет шансы на успех везде. В России революция, вероятно, не за горами. Но я говорю только о ближайшем будущем. Опыт научил меня в более далекое будущее не заглядывать. Должно быть, в Петербурге произойдут перемены в составе правительства. Вдруг на мое счастье будет уволен Горчаков? (он произносил фамилию русского канцлера с ударением на первом слоге). Тогда я вечно молился бы Богу за нового царя. Я видел много позеров в жизни, дорогой граф, и много тщеславных людей. Но самые худшие позеры из всех мне попадавшихся — это князь Горчаков и наш дорогой вождь социал-демократов Бебель. Оба они в конце концов от тщеславия лопнут, и это самое лучшее, что они могут сделать. Ум и характер человека — это его имущество, а тщеславие — закладная по имуществу. При оценке всегда надо принимать в расчет и закладную… Ах, как мне надоели политические деятели! Пора уходить в лучший мир. В этом мире мне иногда удавалось развлекать публику… Надоело, надоело! Ничего не поделаешь. Страсти как форели в озере: последняя съедает предпоследнюю. Политика — моя последняя страсть, и ее съесть некому… Вы сказали, Александр III, — говорил Бисмарк, оживляясь и, по своему обыкновению, перескакивая с одного предмета на другой. — Он, кажется, человек правдивый. Отец, впрочем, тоже не любил лгунов… В России есть один сановник, который органически не способен сказать правду… Он не пьет вина, — очень тревожный симптом… Покойный царь знал толк в шампанском… Я всегда чувствовал к нему симпатию на обедах у нашего императора, где подают немецкое шампанское и по одной котлетке на человека: царь ел и пил с отвращением и очень неумело старался это скрыть. Так вот он как-то спросил того сановника, потому ли он не пьет, что in vino veritas… Он бывал очень, очень мил За столом. Настоящий сармат! Я более типичного русского не видел… А эта способность влюбляться в шестьдесят лет! Он был всегда влюблен и поэтому почти всегда благожелателен к людям. Наш император говорил мне, что женщины губят Александра II, и был в отчаянье от его женитьбы на Долгорукой… Сам он, слава Богу, больше, кажется, не грешит. С него достаточно его жены… Если бы не мои верноподданнические чувства, дорогой граф, то я сказал бы, что эта женщина — катастрофа. Она мне отравила жизнь, — говорил канцлер. — Ах, если бы наш император был вдовцом! Какой монарх из него вышел бы! Конечно, он очень любит императрицу, но… Вы знаете историю ее путешествия? Император был в Эмсе, а ей зачем-то захотелось поехать в Женеву. Она послала императору телеграмму: «Могу я поехать в Женеву?» и пространно объяснила, почему и зачем. Император не любит лишних расходов, он ответил кратко: «Поезжай». Из Женевы она решила поехать в Турин. Новая телеграмма: «Могу я поехать в Турин?» Новый ответ: «Поезжай». Из Турина ей понадобилось съездить в Венецию. Опять телеграмма: «Можно, я поеду в Венецию?» Император рассвирепел и ответил: «Поезжай в Венецию и там повесься…» Вы не верите?
Граф Лимбург-Штирум с изумленной улыбкой слушал, стараясь все запомнить и ничем себя не скомпрометировать. Бесцеремонность канцлера и изумляла его, и восхищала, и приводила в ужас. «Зачем он это говорит? Я, конечно, никому не скажу, но… Ведь все всегда доходит куда надо… Немудрено, что у него столько врагов. Это несчастье для страны, что глава правительства causeur Божьей милостью… В нем пропадает газетный фельетонист…»
— Во дворце говорилось об опасности войны, — осторожно сказал он. — Высказывалось мнение, что теперь в Петербурге придут к власти люди, желающие присоединить к России германскую Польшу и восточную Пруссию.
— Это вполне возможно. Во всех странах процент идиотов в правительстве очень велик. Только идиоту в Петербурге может быть нужна германская Польша и восточная Пруссия, Но чем глупее мысль, тем больше основании думать, что она осуществится. Русско-германская война была бы величайшей глупостью для обеих сторон. Что она нам бы дала? Русскую Польшу? Курляндских баронов? Да я их даром не возьму… Победить Россию очень трудно из-за ее безграничных размеров. Следующая война будет продолжаться не месяцы, а годы. Победим ли мы? Я в этом не уверен. Конечно, наши солдаты храбры, но и русские, и французы тоже храбры, все народы храбры… Гений Мольтке? Наш изумительный генеральный штаб? Полноте… Генеральный штаб нам во всем вредил и в тысяча восемьсот шестьдесят шестом, и в тысяча восемьсот семидесятом году. Они только и делали, что мешали мне… Что же будет без меня, а? Да, что будет без меня?.. Конечно, русско-германская война была бы глупостью. Но именно поэтому она, вероятно, и будет… Вы со мной не согласны?
— Я думаю, ваша светлость так говорит нарочно, — уклончиво сказал Лимбург-Штирум.
Бисмарк засмеялся своим неприятным смехом.
— Вы мне напоминаете герцога Сен-Симона. Людовик Четырнадцатый написал стихи и спросил о них мнение герцога. Тот восторженно ответил: «Положительно, нет ничего невозможного для вашего величества: вы хотели написать плохой сонет, и вы его написали». А знаете ли вы, чем кончится европейская война, дорогой граф? Скорее всего тем, что император потеряет престол… Не спрашивайте: «какой император?» Все три.
— Это невозможно, ваша светлость, — твердо сказал Лимбург-Штирум.
— Да вы самый легковерный человек на свете! Вы верите, что есть вещи невозможные! Спросите меня, возможно ли, что столицей Германии станет, например, Версаль? Я отвечу: вполне возможно. А может ли быть, что германская империя погибнет и что от моего дела не останется следа? Очень может быть. А возможно ли, что римский папа примет лютеранскую веру? Отчего же нет? В мире нет ничего невозможного, ничего! — сказал с силой Бисмарк.
II
Городок был маленький и не очень старый. Построил его на горе между Волгой и Свиягой в семнадцатом веке боярин Хитрово и укрепил «для сбережения от прихода ногайских людей». Однако ногайские люди не приходили или не задерживались. Городок был чисто-русский, чисто-православный; протестанты, католики, евреи среди его 20-тысячного населения были наперечет. Очень мало было и приезжих из столиц. Редкого, достопримечательного в Симбирске (по-старинному, Синбирске) было мало. Приезжим показывали прекрасный собор, в котором хранился напрестольный серебряный крест, пожалованный царицей Марьей Ильиничной. На Волге чтили ее память, и каждый Илья в городе давал новорожденной дочери имя царицы.
Климат был здоровый, но жестокий. Летом зной бывал сильный, и месяцами по городу столбом стояла пыль. Зимой же иногда бывало так холодно, что замерзала ртуть в термометрах, впрочем, еще мало распространенных. Снежные громады заносили все, снег набивался в сени домов. Случались такие бураны, что было опасно ходить по деревянным тротуарам с провалившимися кое-где досками. Но тогда особенно уютной становилась жизнь в жарко натопленных домах с мезонинами, с флигельками, с банями.
Порядки у купечества и мещан были старые, начали изменяться лишь недавно, а кое в чем почти не изменились за два столетья. На кладбище после похорон раздавали нищим блины. Над именинниками ломали ряженый пирог с изюмом и приговаривали: «Так бы сыпалось на тебя золото». Весной и летом в хорошую погоду девицы сидели у ворот со старушками, а молодые люди смотрели невест; если невеста нравилась, посылали сваху, затем родителей, и невеста за чаем три раза выходила переодеваться: показывала, что платьев у нее достаточно; в случае же сговора за воротами били в тазы, — сходились гости и подходил к воротам городской дурачок. Жили купцы хлебосольно, угощали на славу, по-старинному, чтобы всего была пара: два поросенка, два гуся, две индейки, и только каша была одна: «без каши обед не в обед». Все было свое, домашнее: поросята, птица, молоко, масло, фрукты. В садах при каждом доме росли антоновские, титовские, апортовые яблоки, сахарные, молдавские, трубчевские груши, знаменитая по всей Волге шпанская вишня. Заготовлялись в огромных количествах варенья, моченья, соленья. Да и покупать было недорого: ведро слив стоило 40 копеек, а пуд говядины полтинник; иначе как ведрами, пудами, четвериками, мерами в Симбирске съестных припасов не покупали. Даже водка, квас, густые, как масло, наливки были свои. У многих же в сундуках, обитых оленьей кожей, хранились запасы домодельного сукна и полотна. Немногочисленным лавкам и торговать было нечем, кроме колониального и москательного товара, табака и иностранных вин.
Дворянство жило по-иному, но до реформы кое в чем не очень по-иному. На зиму из соседних имений переезжали в город помещики, и тогда каждый день бывали большие обеды то у одного, то у другого. Подавалось по двадцать блюд, после обеда гости из вежливости вздыхали, а хозяин успокоительно говорил: «вздыхать нечего; будем и ужинать». Все проживали гораздо больше, чем имели дохода, и все разорялись, кто медленно, кто быстро, но одинаково верно. От болезней лечились кумысом, который ходили пить в будку на Венце. От простуды натирались деревянным маслом. В винт играла только интеллигенция, преобладали преферанс и стуколка; старики же, еще вспоминавшие о лютостях Бонапарта, предпочитали ломбр, пикет и рокамболь. У старых людей сохранялись воспоминания о пушках, когда-то стоявших в садах: гостеприимный хозяин с утра выстрелами звал к себе друзей на обед, а кто принимал приглашение, тот палил в ответ из своего сада. Изредка еще попадались и самодуры старого образца, которые в случае обиды на приятеля приезжали к нему со свиньей: «корми и свинью». И только при Александре II медленно стал изменяться старый вековой быт.