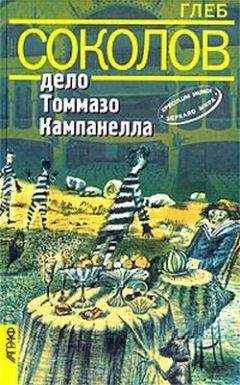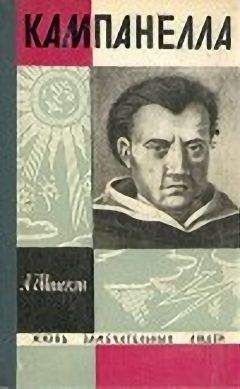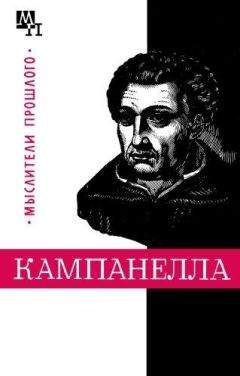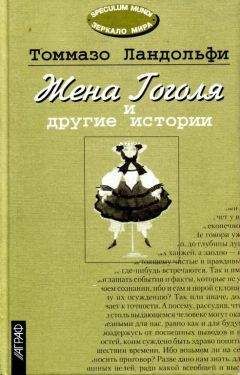Эли Визель - Легенды нашего времени
Когда я возвращался домой, меня охватило легкое беспокойство: а вдруг мой венгерский еврей из Бруклина не незнакомец? Я остановился посреди улицы и прислонился к стене небоскреба. Вспомнил наш телефонный разговор — сейчас он показался мне еще более странным. Почему он не захотел назвать себя? Почему отказался прийти ко мне? Почему назвал имя кантора только в последнюю минуту? Что, собственно, его рассмешило? Я почуял какую-то смутную опасность. Если он не незнакомец, то кто же он? Что ему от меня нужно?
Я встряхнулся и пошел дальше. Было поздно, я очень устал. На набережной, по которой я шел, не было ни одного человека. Но все-таки я на каждом углу останавливался и оглядывался, сдерживая дыханье: не идет ли кто за мной? Никого не было. Просто нервы. Машина ослепляет меня фарами, я отступаю, она проезжает мимо. Кто вел эту машину? Нет, не надо ни о чем думать. Но вот, наконец, и дом, в котором я живу. Швейцар открывает подъезд и смотрит на меня неодобрительно — думает, что я пьян, или что я не один. Поднимаюсь на двадцать четвертый этаж. Моя комната. Боюсь зажечь свет. Ощупью нахожу кровать, раздеваюсь в темноте, ложусь. Но за мной наблюдают. Спать, спать, броситься в сон. Тысячи рук тянутся ко мне, зовут меня; мне страшно, но я позволяю им унести меня, я хочу найти тот голос, понять, почему он показался таким знакомым; я боюсь, но хочу понять, почему я боюсь даже во сне.
Уже за час до назначенного времени я стоял у входа в библиотеку. Большие магазины выплескивали на улицу волны посетителей, и они затопляли тротуар и мостовую. Пешеходы и автомобилисты ввязались в свою ежедневную войну, к отчаянию разрывавшихся на части полицейских. Пробкам не было конца. От жары у прохожих были покорные, погасшие лица. Мужчины и женщины, молодые и старые, держались за руки, одни по привычке, другие, чтобы не потеряться. Толпа росла на глазах. На каждом шагу приходилось останавливаться. Казалось, эта сплошная аморфная масса никогда не схлынет с места.
Я стоял неподвижно и всматривался в потные лица: не узнаю ли я того, кого жду? К тому же мне не хотелось встретить тут кого-нибудь из знакомых. Но это, разумеется, произошло. Почти произошло. На лестнице огромного дома показалась девушка. Это была студентка, которая приходила ко мне всякий раз, когда в ее жизни наступал кризис — что случалось довольно часто. Она мне нравилась, но не представляла мне случая сказать ей это: ее интересовали только так называемые умные вопросы. Я приглашал ее пойти со мной пообедать или в концерт: она все говорила и говорила. Я отпускал комплименты ее красоте, она отвечала: «Большое спасибо». И тут же меняла разговор, непременно желая, чтобы я ей сказал, какова роль индивидуального действия в современном мире, или каким образом еврей в кровавые века мог оставаться евреем, не оскорбляя других и не роняя себя, или возможно ли для творческого человека осуществить себя не во враждебном окружении. Я поддразнивал ее: — А о любви вы никогда не думаете? — Нет, она никогда не думала о любви.
Прелести в ней было столько же, сколько комплексов; очарования не меньше, чем неврастении. Но мне она очень нравилась.
И вот сейчас, в самый неподходящий момент, она спускается своей легкой поступью по лестнице прямо ко мне. Убежать? Но толпа тотчас же отбросит меня назад. И я, чего доброго, упущу своего незнакомца. Я остался на месте, молясь о чуде. Против всякого ожидания, моя молитва была услышана. Девушка, сделав вид, что меня не заметила, кинулась к парню, стоявшему в нескольких шагах от меня. Они так поцеловались, что я понял: с ним она занимается не дискуссиями о бессмертии души.
Ровно в семь часов подошел человек и стал меня разглядывать. Он меня не узнал: с тех пор, что я покинул свой город, я изменился. Но я его узнал. Горящие глаза, раздутые губы, сгорбленная спина. Остальное меня не интересовало. Внешние атрибуты не имели значения. Когда-то он ходил в лохмотьях. Теперь он выглядел элегантно: серый костюм, галстук в тон. Когда-то он играл нищего; теперь — богача.
— Моше, — пробормотал я сдавленным голосом.
Он протянул мне руку.
— Здравствуйте. Рад с вами познакомиться. Как поживаете?
Голос Моше, низкий и мелодичный. Неуверенные движения. Мутноватый взгляд, умоляющий и насмешливый.
— Так себе, Моше, так себе.
Я не верил своим глазам. У меня голова шла кругом. Он держал мою руку и я был не в силах ее отнять. Я говорил себе: надо собраться с мыслями. Но я не смел это сделать. Кто знает, куда меня заведут мои мысли. Если Моше-сумасшедший жив, то и все исчезнувшие, все, кто ушел в туман, живы тоже; значит, в царстве тьмы произошло что-то такое, чего мы еще не знаем, что-то иное, не то, что мы думаем.
Он отпустил мою руку и вперил в меня испытующий взгляд:
— Вы назвали меня Моше. Почему?
— О, не знаю. Просто так, по привычке. Я люблю это имя, в нем история моего народа. Первый еврей, которого так звали, был и первым, кто спасся от организованной смерти: Моисей — Моше. Мы получили в наследство не только его Закон, но и его имя. И все, что с ним связано.
Это он, он, мой друг, сумасшедший кантор, смотрел на меня, в этом не было никакого сомнения. Я видел, как он шел умирать, и это только доказывает, что он остался в живых; все те, кто вошел ночью в расщелину смерти, выплыли оттуда с наступлением дня, чистые и святые, более чистые и святые, чем те, кто не последовал за ними.
И вдруг я понял, почему он преследовал меня со времен освобождения: я видел его повсюду, потому что он и был повсюду, во всех глазах, во всех зеркалах. Мертвые вернулись на землю, и у всех был его облик; он был первый в этой династии сумасшедших; он — рок, ставший человеком.
У него теперь не было ни большого живота, ни всклокоченной бороды. Он уже не носил таллит катан под заплатанным пиджаком. И все-таки это был тот самый Моше, который в часы молитвы кричал на улице перед синагогой: «Горю, дети мои, горю, как огонь! Смотрите, дети, смотрите! Видите, каждый может гореть и не сгорать!» Все думали, что он пьян. Он любил выпить. По праздникам он приходил на собрания разных хасидских групп; собрания прерывались; он вскакивал на стол и пил прямо из бутылок, которые ему протягивали со всех сторон. Это был король-шут, пророк-шут, который мог позволить себе все. Чем больше он пил, тем прозорливее становились его речи. Он кричал: «Горю, дети мои, горю! Смотрите и поймите, наконец, что огнем зажигают огонь и огнем же его гасят! Горе тому, кто его погасит, горе тому, кто от него отстраняется! Смотрите, дети мои, смотрите, как я очертя голову бросаюсь в огонь!»
— Пойдемте, закусим, — предложил мой спутник.
— Прекрасно. Будем есть и пить. Непременно. Как когда-то.
Мы нашли на 46-й улице кашерный ресторан. Официант поставил на стол бутылку сливовицы. Мы чокнулись. Я сказал:
— Моше-сумасшедший пил один. Я должен был бы составить ему компанию; тогда я был слишком мал, не поздно ли сделать это сейчас? Хотел бы я знать.
Я налил по второй, по третьей. Я опрокидывал рюмку залпом; он потягивал маленькими глотками. Я думал: — И все-таки он переменился. Когда-то он был нетерпелив, ему хотелось опередить время. Может быть, он уже добежал до конца?
— Я прочел то, что вы написали о Моше-сумасшед-шем, — сказал он с легкой гримасой. — Вы, по — видимому, знаете его лучше, чем я.
— Лучше чем вы? Может быть, иначе?
— Нет. Лучше, чем я. Доказательство: вы о нем говорите, он вдохновляет ваши рассказы. Потому-то я и хотел встретиться с вами. Что вы о нем знаете? Какие у него были корни, стремления, тайные замыслы? Вы уверены, что он был таким, как вы описываете? А не пользовался ли он своим сумасшествием, чтобы достичь какой-то одному ему известной цели? И уверены ли вы, что он был убит в Освенциме?
Мне хотелось перебить его, сказать: — Вы не так меня поняли, я не так выразился, не так написал и вы не так прочли. Теперь я знаю истину, истина в том, что Моше-сумасшедший не умер и не умрет никогда, и образ его никогда не угаснет. Но я ничего не сказал; я сидел под градом его слов, которые сыпались на меня как справедливое и заслуженное возмездие. Наконец я не выдержал и закричал:
— Чего вы от меня хотите? Что я вам сделал? Кто дал вам право судить и обвинять меня? Моше-сумасшедший? Он никого не осуждал, а вы осуждаете. Во имя чего? Во имя кого?
Он положил руку мне на рукав, стараясь успокоить.
— Вы вспылили, не надо на меня сердиться. Если я вас задел, то прошу прощения.
Я думал: «Да, он все-таки изменился. Моше-сума-сшедший в жизни ни у кого не просил прощенья, даже у Бога, особенно у Бога».
Он выпил еще глоток и тихо добавил:
— Я был так заинтересован, что, понимаете, даже злоупотребил вашим добрым отношением.
— Не будем об этом говорить. Выпьем. Лучший способ помянуть кантора — это выпить.
Чтобы все загладить, он залпом проглотил рюмку, потом сказал нерешительно: