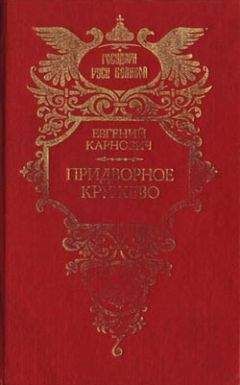Аркадий Савеличев - Генерал террора
— Бьюсь об заклад — Борис Викторович даже сейчас мечет бомбы... не обижайтесь, ради бога! — выскочив высокой нотой, на тихий чахоточный лепет сошёл голосок неподражаемой хозяйки.
— Нет, божественная 3. Н., — поднялся Савинков с дивана, и при невысоком росте став сразу и выше, и заметнее многих. — Скучаю. Просто скучаю...
—...от безделья? Борис Викторович, согласитесь?
— Да. Безделье, — без всяких увёрток и тоже с полнейшей открытостью согласился он.
При этом Керенский, тихо и вяло закусывавший в полном одиночестве, вскинул заметавшиеся глаза и, как гончая, насторожил оттопыренные уши. Чтобы на своём отрезанном слове и покончить, Савинков прошёлся по гостиной, перемешивая и смущая взгляды, и бесцеремонно, как это он умел делать, направился в кабинет 3. Н. Не сомневался, что Керенский последует за ним. Но не так же шустро, будто нагоняя на длиннющем Невском проспекте! Савинков не успел и осмотреться в сегодняшнем дамском пристанище. Тут каждый Божий день что-нибудь ломалось, переставлялось, разбрасывалось и чинилось — даже завсегдатаю разобраться было нелегко. Немудрено, что насмешливо остановился при пороге. Сейчас же нетерпеливая рука и легла ему на плечо:
— Безделье? В революцию? В такую великую революцию?!
«Без аффектации он не может», — с молчаливой ухмылкой подумал Савинков, который уже больше десяти лет распрекрасно знал этого человека и по России, и по Парижу, и по другим всемирным градам и весям. Хоть и социалист, и революционер, под ручку ходивший с Плехановым, и даже с Бронштейном, но внешнего «демократизма» никогда не допускал, был по-своему элегантен, а сейчас... Эта черно-суконная, чуть ли не матросская, тужурка с отцветшим затасканным бантом, пепел и крошки на коленях, какая-то неуловимая неряшливость во всём!.. Отвечать ему не хотелось. Но надо.
— Мы революционеры... без нас свершившейся революции! Кому мы нужны?
— Революционной совести. Свободе!
Савинков знал, что последует дальше: равенство, братство... этакий плебейский брудершафт! Истинно говорит эта сумасшедшая, слишком уж эмансипированная 3. Н.: слова — как пена... Чтобы не смотреть в блуждающие, поджаренные глаза давнего «соратника», он свои-то насмешливые, колюче-ледяные — по столу, по всем этим грудам дамских бумаг, разворошённых неподражаемо дамской революцией. То ли слышалось ему уже где-то, то ли в Париж через все европейские фронты залетало? Какой эсер всуе не вспоминает про крестьянскую землицу? Даже и большевики карасей на эту приманку ловят. Как раз кстати! Он только огласил, да и то чуть-чуть небрежно:
— Мне — о земле — болтали сказки: «Есть человек. Есть любовь». А есть — лишь злость. Личины. Маски. Ложь и грязь. Ложь и кровь.
Керенский едва ли уловил здесь что-то поэтическое и ухватился за самое внешнее:
— Кровь? Борис Савинков убоялся крови? С каких это пор?
— С тех пор, как вижу: целыми сотнями, гуртом, будто овец, убивают русских офицеров!
— Так не давайте это самое... убивать! Поезжайте комиссаром Временного правительства — полномочным комиссаром... ну, скажем, на Юго-Западный фронт. Там, кажется, Брусилов... или Корнилов?.. — запутался в командующих. — Всё равно. Славные воители! Наши. Будущие революционеры. А вы?.. Вы — комиссар правительства. Второе лицо после командующего, вы...
— Но — дальше? Дальше — что?
— Дальше?.. — на какую-то секунду задумался Керенский. — Военный министр... да, военный! В моём революционном правительстве. Вы слышали, конечно?
Это уже не походило на словесный абсурд. Да, Савинков слышал: бывший адвокат, бывший министр юстиции сегодня выбран... или назначен... чёрт их там разберёт!.. да, председателем Совета министров, премьером, как для солидности, на европейский лад, судачили вокруг вездесущей хозяйки. До этого Савинков участия в досужей болтовне не принимал — тут, в роскошнейшем салоне, каждый день кого-нибудь снимали... или назначали, согласно случаю. Но не столь же круто? Дело было посерьёзнее. Как ни относиться к бывшему адвокату, не станет же он набирать несуществующую команду.
— Да, я вас слушаю, Александр Фёдорович.
— Я намерен коренным образом преобразовать Совет министров. Не буду вдаваться сейчас в подробности. Скажу только: уже сегодня утром на вас глаз положил. Хватит вам, Борис Викторович, без дела шататься. Не такой вы человек. Идите работать в моё правительство. Моё! — с удовольствием повторил ещё непривычное и для него самого слово.
Видимо, так: ещё до прихода сюда думал о своём предложении. Уж не 3. Н. ли постаралась? Дай ей волю, она не только засевшую в Смольном Совдепию, но и суматошное правительство расшвыряет милой дамской ручкой... как вот эти необозримые бумаги на этом необозримо-революционном столе! Статуэтка Робеспьера на книге неистовой воительницы Дашковой; матросская бескозырка и казацкая нагайка; гипсовый Стенька Разин и черно-стальной «Броненосец Потёмкин»; листовки, воззвания, свои и чужие стихи, лапотки детские, гроздья ярчайших бантов, склянки из-под лекарств, вниз головой брошенный Бальмонт, письма, конверты, записки, писульки и просто клочья разодранных бумаг... Чего тут только не было! Мужчине следовало бы отвести взгляд, чтобы не наткнуться на нечто и дамски-интимное. Но Савинков привык к этой беспардонной революции и думал о своём: «Она? Лукавая 3. Н.?» Пожалуй, именно она и порешила, а судьбоносный министр не мог ей отказать в такой малости... Бедная, ослепшая Россия!
Но сказал совсем другое:
— Комиссар? Военный даже министр? Играем! Ставки сделаны, граждане-господа.
Керенский пожал ему руку, и на голой, бесперчаточной ладони проступил чужой нервный пот.
Савинков, скрестив на груди руки, на какое-то время застыл перед развороченным столом. Не такова ли и судьба?
Убийца в Божий храм ни внидет.
Его затопчет Рыжий Конь...
— Бледный! Разве вы забыли? Готовя книгу, я поправила. Рыжий — ещё только предвестие беды. Бледный — сама беда. Ах, несносный Борис Викторович! Сейчас бы я сказала: Конь Вороной. Будьте Вороным! Будьте!..
Как заклятье, как новая судьба. Разве уйдёшь от неё?
— Шпионите, милая 3. Н.?
— Что делать, что делать, Борис Викторович... — ласкающая, заигрывающая грусть. — Жить напротив Смольного, на самом острие бури, писать, описывать всё день за днём... и не прописаться в шпионы?! Да знаете ли вы...
— Гип-гип, ура, — остановил её Савинков. — Мне только что поступило предложение с того света... да, с того, запредельного, — выдержал он бешеный взгляд Керенского. — Предложение — стать дьяволом этой российской революции. И, знаете, я согласился. Дьявол — это в моём вкусе. Но! — поднял он палец, к чему-то прислушиваясь. — Поброжу-ка я по нынешним вонючим улицам и попытаю дьявольскую судьбу. Скучно на этом свете, господа.
Он не видел, как за его спиной заломила руки слишком уж экзальтированная 3. Н., но всё-таки, выходя, слышал всхлипывающий шепоток: «Ну, что с него возьмёшь? Он такой неисправимый бесёнок... да что там — революционный бес...»
Дьявол ли, бес ли — всё едино. Проходя по залу, гудевшему всякой чертовщиной, даже нижегородским рыкающим баском бывшего пекаря и нынешнего лекаря всея Руси, даже хитромудрым распевом уличного лотошника... нет, самого богатейшего издателя, даже балаганными шутками какого-то лапсердачного прихлебателя, Савинков неторопливо и ни на кого не глядя выпил кем-то услужливо поданный бокал шампанского.
— Спокойной ночи, граждане-господа.
— А говорили — литературные чтения? Говорили — Савинков? Не всё же мне отдуваться!
Красная косоворотка, скрип смазных сапог, рыкающий говорок нижегородского гения — всё раздражало Савинкова. Он бросил через плечо, уже ему одному:
— И вам спокойной ночи... товар-ршц!
Улица быстро отвела его от этого расшумевшегося дома прямиком к Таврическому дворцу.
* * *
Несмотря на поздний час, все подходы были запружены народом. Не то больше-вики, не то меньше-вики. Не то анар-хисты, не то монар-хисты. А больше всего праздных и пьяных. Скука не тётка! Побежишь не только на улицу, но и в самую растреклятую революцию...
Савинков поймал себя на мысли, что до сих пор не может всерьёз воспринимать происходящее. Фантасмагория при свете прожекторов, свечей и горящих в мягкой ночи факелов. А ведь и без того светло. Ещё не отцвели, подобно революционным бантам, белые петербургские ночи... или уже петроградские?.. Но всё равно — славные ночи! Жаль, их мутит всякий сброд... Хотя почему же? В потоке движущейся, мятущейся, ревущей толпы, не торопясь, как в лучшие времена, двигался открытый автомобиль, окружённый исключительно женской цепью. Ландо — сказал бы Савинков, знавший роскошь Парижа. Вот при виде его и ревела толпа. Думал, какой-нибудь прыщ совдеповский, а это... Ба! Неподражаемая, тоже сумасшедшая — а кто сейчас нормален? — революционно-царственная Вера Фигнер. Что делать, он уважал эту женщину. Она была сродни ему самому. У неё — не словоблудие, у неё — браунинг в руке. Право, так и виделся символ карающих народовольцев. Да что там — сам Савинков не знал ничего лучше браунинга, хотя ласкал рукояти всех мастей и всех марок.