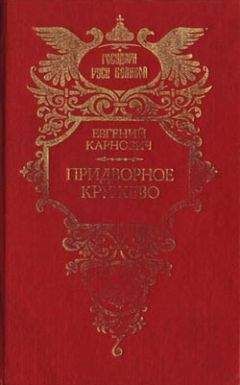Аркадий Савеличев - Генерал террора
Словеса, словеса. Боже ты наш! Всё как в давние времена... Савинкову удалось наконец вырваться из дружеских объятий, и он по-дружески напомнил:
...Слова — как пена.
Невозвратимы — и ничтожны...
Слова — измена,
Когда деянья невозможны.
Так наша бесподобная 3. Н. говаривала?
— Сейчас поменьше говорит. Кашляет...
— Что делать, что делать, дорогой Павел Макарович... Старь и пыль жизни.
Он щелчком сбил какую-то невидимую пылинку с рукава отлично сшитого английского смокинга, к которому никак, уж никак бы ничто постороннее не пристало... в том числе и аляповатый красный бант, который прикрывал запавшую грудину давнишнего студенческого дружка. Под кого он рядится? Впрочем, и на себя посетовал за голые, пролетарски беззащитные руки: эк их, какие сиротливые без перчаток-то!..
— Значит, Гип-Гип покашляла на прощанье и укатила? Ура! А я, представьте, хотел огорошить её же собственными стихами. Она Париж и Лондон моими именными бандеролями завалила. Вот, пока сюда добирался — назубок вызубрил. Ещё хотите? Ведь через всю воюющую Европу слала мне — через всю обезумевшую... Ладно. Довольно стихов. В «Асторию»? Или в «Националь»?
— На первое время — ко мне, — безоговорочно отрезал Павел Макарович, поправляя уже порядочно полинялый бант. — В городе неспокойно. Вам было мало двух выстрелов?.. Ещё слезая с извозчика, я слышал. А в кого же другого могли стрелять? Ко мне. Сейчас подойдёт наш министерский автомобиль — я уже телефонировал с полдороги, а здесь недалеко. Тряхнём у меня стариной! Так 3. Н. решила. Вы не хотите подчиниться ей?..
— Подчиняюсь, подчиняюсь, — очнулся от раздумий Савинков. — Представляю моего попутчика: поручик Патин, — жестом притянул его к руке Павла Макаровича. — Ладно, взаимные объятия — потом. Едемте, коли так... с этого всесветного базара!
На перроне студенты всё ещё раскачивали, как нелепую, разлохматившуюся куклу, разомлевшего от всеобщего внимания, добрым десятком бантов увешанного Чернова, и даже грузному, породистому Авксентьеву, тоже при двух-трёх пришлепнутых бантах, порядочно доставалось, — и целой толпой не могли как следует подкинуть, а только вякали от натуги.
Что-то нехорошее, вроде как завистливое, опять шевельнулось в душе Савинкова, но на пути к поджидавшему их министерскому автомобилю утихло, умиротворилось и растворилось в дружеских россказнях Павла Макаровича, и по фамилии-то — Макарова, а по нынешней должности — почти настоящего министра... ну, скажем, председателя какого-то никому не нужного комитета. Он и сам-то посмеивался над своей должностью, истинно не понимая, чем занимается. Савинков узнавал своих друзей, делавших такую распрекрасную... и вроде как безродную революцию. От всего этого у него не явилось ни грусти, ни раскаяния. Жизнь как жизнь. Уличные парижские деяния научили ничему не удивляться.
А за обедом, где и пришлого революционного народу понабралось, душа эмигрантская, немного завистливая, немного и оскорблённая — вот, мол, опять опоздали, к шапочному разбору только и поспели, — всё же встала на своё место, покойное, уверенное и никому не подвластное. Эту душу было не раскачать и не подкинуть на хлипких студенческих руках...
— Такие мы с вами... гражданин поручик, — приобнял он никому здесь не знакомого Патина, этим как бы вводя его в круг своих давних друзей.
— Такие... гражданин бомбометатель, — после петербургского шампанского улыбнулся доверчиво поручик.
Встреча после десятилетней разлуки удалась на славу. Во всяком случае, многих и на второй, и на третий день сельтерской отпаивали... Что поделаешь, расходилась русская душа.
Савинков только через неделю переехал на квартиру Мережковских, заваленную книгами, рукописями, нотами, иссохшими цветами... и пылью давних воспоминаний...
Поручик Патин вырвался из дружеских петербургских объятий раньше его: надо было к себе, на Волгу. Савинков не удерживал. Дел-то никаких пока не находилось. Истинно пророчила пророчица 3. Н.: словеса, словеса!
Его звала живая жизнь. Улица столичного города.
Истинно он говорил на севастопольском смертном суде: «Потомственный дворянин Петербургской губернии». Дворянин не мог оставаться в стороне от своей родины. Он думал сейчас об этом без насмешки и горечи. Воздух Родины настраивал на спокойный и решительный лад.
IV
Салон всесокрушающей Зинаиды Гиппиус, дочери обер-прокурора Синода, не имел ничего общего с салонной жизнью её отца. В жилах отца текла древняя скандинавская кровь — у дочери кипела славянская брага. Трын-трава... с хмельным стихом пополам!
Неподражаемо наивный Дмитрий Мережковский ничего с этим поделать не мог. Салон так салон — развороченный, никем не управляемый муравейник... Впрочем, как же без управления? А неподражаемая 3. Н. для чего? Она царила — она и властвовала. Можно было ослушаться царя, губернатора, обер-прокурора — но только то её. При её появлении все, включая и отставленных от жизни камергеров, заискивающе восклицали:
— Гип-гип, ура!
Это было незыблемым паролем. Это было истинной правдой. Всё являло привычные приличия, и даже многое сверх того, утончённо интимное и завораживающе интеллигентное, но при всём при этом незримо затоптанное и захватанное чужими руками. Нет-нет, ни пылинки, ни соринки при появлении самой хозяйки — для чего же и горничные существуют? — однако общее впечатление пригородной, со всех сторон обтоптанной муравьиной кучи не проходило. Здесь представало всё, что подобает большой профессорской квартире: и два не сообщающихся между собой рабочих кабинета, и спальни, и прихожие, и полуприхожие, и необъятная общая гостиная, и непонятного назначения какие-то полугостиные... и комнаты, и комнатушки, и двери, двери, двери, — а их, дверей-то, вовсе и не замечалось. То есть они открывались и закрывались на хорошо смазанных петлях, да кто с ними считался? Входили и выходили. Звонили и не звонили, просто так, мимоходом с улицы. Неслышно ступали по коврам лакированными туфлями и топали смазными сапожищами. Раздевались вроде бы в прихожей, вдоль целого ряда вешалок, но могли и так, в драной солдатской шинели, прямиком к общему столу. Хозяйка не только не возражала — хозяйка радостно всплёскивала болезненными, призрачно-прозрачными руками:
— Ах, мой дорогой... ведь революция, революция... правда?..
Она всегда торопилась, всегда немного покашливала, то ли от наигранной, уже устоявшейся нервности, то ли от болезности своей, которой несказанно дорожила.
А под руку ей сейчас попался не кто иной, как сам нижегородский гений — немного с иронией, немного и с опаской называла она так российского буревестника. В красной косоворотке, в смазных, скрипящих сапогах, окающий и топающий одновременно, он был неотразим, он даже в этом непререкаемом царстве царствовал всем наперекор. Рука его, когда бесцеремонно и хозяйку брала под локоток, казалась железным обручем, а окающий голосок и того туже стягивал мысль:
— Открою вам, Зинаида Николаевна, откровение отнюдь не святого Олексия. Да. Всё отдам. Славу — отраду жизни, отменное трудолюбие, святой озноб творчества, ночной прибой на Капри — верните мне только молодость. Мо-ло-дость, Зинаида Николаевна!
— Ах вы, бури вестник! — попробовала она высвободить занемевшую руку. — Буря и революция — что лучше!
— Разве что женщина... да ещё стопка водки. Не обессудьте.
Стопка явилась по одному взгляду хозяйки, но такой избалованный гость уже не мог остановиться:
— Опосля, опосля. Я про молодость! Ведь страшно стареть, дорогая Зинаида Николаевна. Вот — буря. Вот и она — революция. А человек?
— Человек — это звучит гордо, — вспомнилось и ей что-то такое, всем известное.
Такому гостю нельзя было возражать, да и кому она возражала? Всяк сюда входящий...
— Правда, что не человек, а революция... ну, признайтесь, признайтесь?
— Правда, — в тон ей отвечал всем знакомый эстет, может, и нарочно не снимая белых перчаток.
А через минуту и шинель какая-то особенно затрапезная то же самое, на те же самые слова отвечала:
— Правда ваша, Зинаида Николаевна. Революция.
Было в этих однообразных ответах-приветах вдоволь и скуки, и наглости, и всякой вспучившейся петербургской пены; но былой нечто подобострастное, заискивающее перед такой обворожительно революционной хозяйкой. Здесь раздавались аттестации, здесь прописью писались дипломы общественной значимости. Попробуй-ка не угоди! Ниц — и только ниц, под шелестящее: «Гип-гип, ура!» Вот ведь дела: и не особенно красива, и не слишком, может быть, умна, а люди бежали, ползли, вышагивали и прорывались к милому их сердцу муравейнику. Здесь все свои, здесь судьбоносные. На перекрёстке путей и перепутий. Квартиру эту словно и создавали для российских бестолковых революций. Все на виду, на самом уличном юру. Известно, революция начиналась около Думы, то есть около Таврического дворца; прямые улицы, словно переполненные кипучей кровью артерии, неудержимо сюда и стягивались. Широко раскинувшийся дворец екатерининских времён задумчиво и гордо поднимал свой неповторимый купол, и кто-то вечный, недосягаемый взирал оттуда на бешено текущую уличную толпу, а бельэтаж последнего перед воротами дома — как пост наблюдательный всей разворошённой российской интеллигенции. Стоило из орущей, музицирующей, декламирующей профессорской квартиры выйти на балкон — и вот она, решётка старинного парка, липы, ясени, дерева по весне трогательно обнажённые, как плечи курящих и спорящих молодых дам, а сейчас в густой, завьюженной листве — как отучневшие плечи дам постарше, ещё старше... и совсем уж неприлично неприкрытого возраста. На это, конечно, не обращали внимания. Время-то, время какое! Даже оробевший поначалу поручик Патин, только что вернувшийся со своей Шексны, скоро разошёлся и только что не потрясал засунутым во внутренний карман Вальтером, — прямо-таки всем своим взъерошенным видом шёл на решётку Таврического дворца: