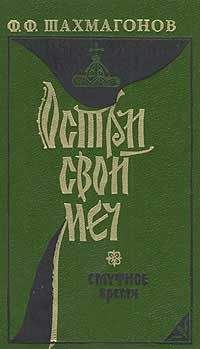Юрий Когинов - Татьянин день. Иван Шувалов
Всё открылось случайно. Однажды, ещё при Петре, какое-то важное лицо, состоящее на царской службе, проезжало через Лифляндию. То ли дорога была уж очень плоха, то ли возница ехал лениво, но царёв посланец стал возницу того колотить в спину: — Ты, чухонское отродье, нехристь, не можешь разве гнать своих кляч шибче? Гляди мне, мигом вытрясу из тебя всю душу, коли не послушаешься моих приказаний!
Хозяин лошади, как ни боялся палки и кулаков петербургского сановника, всё же решил возразить:
— Если бы ты, барин, знал, какая у меня в Петербурге родня, то даже пальцем не посмел меня тронуть.
— Ишь ты как заговорил! Что же за важная родня у тебя в нашей столице? Небось брат или дядька служит в гвардии капралом? Так, что ли?
— Родная сестра моя — русская императрица, — был ответ крестьянина, отчего приезжий разинул рот и долго не мог вымолвить ни слова.
Когда по возвращении царёва посланца Пётр направил в лифляндские места надёжных людей, оказалось, что мужик нисколечко не наврал. У русской императрицы было два родных брата — Фёдор и Карл. Кто-то говорил, что фамилия у них была как бы такая: Скавронки. На польском языке слово это обозначает жаворонков.
Братьев привезли во дворец, представили царице и царю. Пётр спросил, где бы они отныне хотели жить.
— Домой, государь, отпусти нас, — ответили они. — Мы к городам и дворцам не привыкшие.
Их отпустили, но велено было содержать их в родных местах, ни в чём им не отказывая.
Только вступив на трон, Екатерина перевезла родню к себе. Фёдор, что признался когда-то на дороге в своём высоком родстве, к тому времени помер. У другого брата, Карла, оказался сын Мартин. Вот этому потомству императрица дала фамилию Скавронских и возвела её в графское достоинство.
Но кроме братьев в семье были и сёстры Екатерины. Одна значилась за мужем Генрихом, другая — за каким-то, тоже низкого происхождения, Ефимом. И они получили достойные имена — Гендриковские и Ефимовские — и тоже были доставлены в Петербург. Но только теперь наследники и этих фамилий, уже по воле Елизаветы Петровны, также стали графами Российской империи.
Однако настала пора позаботиться и о родственниках того, кто в последние годы стал ей, Елизавете, что называется, дороже собственной жизни, её самым желанным и самым любимым дружком и пока ещё невенчанным мужем. Никак не отделаться было: живёт во грехе, почему не выходит замуж? Но теперь-то зачем ей было скрывать то, что знали все вокруг, когда, назначив наследником сына сестры, она тем самым сказала: собственного законного потомства у меня самой не будет, поскольку я даю обет не идти под венец.
И в этом поступке нельзя было не видеть того, что было в характере её родного отца и родной матери: своя личная жизнь — вот она, пред вашими глазами, и я поступаю пред вами открыто, ни в чём не таясь.
Собственно говоря, и до этого всё было у неё, как у отца, нараспашку. И когда впервые увидела Алёшеньку Розума и услышала, как он поёт, не побоявшись ничьих пересудов, ни гнева Анны Иоанновны, царицы, заявила: «Он — мой».
Появился же Розум при императорском дворе случайно. Оказался как-то царский полковник в черниговских местах. Вёз он из Венгрии для царского стола изысканные вина. И вот в одной из сельских церквей услыхал, как поёт молодой хохол. Был тот парубок лет двадцати, на редкость приятной наружности, а голос был у него чисто ангельский.
— Только духовное можешь петь или знаешь что-либо мирское? — спросил у парня царский слуга.
— Знаю свои, малороссийские песни. А ещё могу играть на бандуре.
— Похвально, — одобрил полковник и попросил спеть что-либо народное, от чего пришёл в неописуемый восторг.
Так оказался красавец казак в императорском хоре, где его услышала цесаревна Елизавета.
— Кто ты таков? — подошла она к нему и не смогла оторвать от него глаз.
Он стоял перед нею, немного смущаясь, но оттого был ещё более пригож и красив. Оказался он одних лет с цесаревною, так же высок и строен, как и она сама. На лице его, несколько смугловатом, играл нежный румянец. Волосы, густые и чёрные как смоль, вились пышными локонами, из-под тонких, красиво изогнутых бровей смотрели тёмные, как спелые вишни, прекрасные, с влажною поволокою глаза. Вдобавок ко всему всё лицо его дышало открытостью и обаятельным добродушием. И особенно милым оказался такой непривычный и мягкий его малороссийский говор.
— Как звать-то тебя? — спросила цесаревна.
— Розум Алексей.
— Розум — то прозвище?
— Точно так. Это прозвание, что дали отцу наши хуторяне. Батька, когда выпьет, был буян не приведи Господи. А трезвый — спокойный и душевный человек. О себе так и говорил: что за разум у меня, что за голова!
Простодушие, с которым молодец говорил о себе, совсем покорило цесаревну.
— Хотел бы в мой хор? — неожиданно для самой себя произнесла Елизавета. — У меня парни и девки голосистые, как сирены, и бабы с мужиками — плясуны и плясуньи. А ещё — театер. Спектакли разные ставим — представления, в общем.
— Чего ж не пристать к такому веселью? — улыбнулся Алексей, показывая ряд снежно-белых и крепких зубов. — Только ведь я, хотя числюсь вольным казаком, теперь, вишь, приписан к царицыну хору.
— Но то моя забота — вызволить казака из плена, — ответно заулыбалась Елизавета, играя ямочками на щеках.
Так Розум оказался на службе при дворе цесаревны, переменив к тому же простонародное прозвище на звучную фамилию — Разумовский.
С той поры прошло чуть ли не десять лет. Было всякое: и распри и ссоры, но всё — как у людей, если не сказать как у жены с мужем. И обоим стало ясно: не разойтись им, наверное, никогда, и особливо теперь, когда все невзгоды позади и никто им отныне не указ.
А раз так, значит, надо, чтобы всё и дальше шло как у людей. И перво-наперво — чтобы и его, Алексея, родня была доставлена ко двору. Как когда-то при отце-императоре её, материнская, родня.
На хуторе, или в казацкой слободе Лемеши, что затерялась на черниговской земле, стояло всего с десяток простых хат. Летом дворы утопали в зелени садов, протягивавших со своих ветвей каждому проходящему спелые гроздья черешни, яблок и груш, а просторные огороды полнились крутобокими кавунами и дынями, спелыми огурцами и другой нужной в хозяйстве овощью.
Давно уже распростилась Розумиха со своим старшим сыном, знала, что живёт он теперь при царском дворе, но как и что, доподлинно себе не представляла. Потому страшно испугалась, когда однажды за нею прибыл целый поезд — богато украшенные кареты и брички.
Офицер, выскочивший из переднего экипажа, подошёл к первой же хате и громко спросил:
— Где здесь живёт госпожа Разумовская?
— Это хто ж такая? — недоумённо переспросили высыпавшие во двор селяне. — Господ у нас туточки немае. А чтобы с таким прозвищем — отродясь не слыхали.
Приезжий как мог напомнил, что был в их слободе один парубок с прекрасным голосом, который давно уехал в Петербург. Так вот есть нужда увидеть его родительницу.
— А, то трэба тоби Наталку Розумиху, — наконец дошло до собравшихся. — Так вон её хата и вон она сама иде к тэбе, пан ахвицер.
Когда она подошла, офицер снял с головы треугольную шляпу и почтительно ей поклонился.
— Её императорское величество царица Елизавета Петровна, — начал он, — соизволила повелеть мне отправиться в Лемеши и доложить вам, милостивая государыня Наталья Демьяновна, что её величеству благоугодно пригласить вас пожаловать к высочайшему императорскому двору. Со мною экипажи, которые предназначены вам и вашему семейству. Так что соблаговолите собраться, чтобы мы засветло отправились в путь.
— Чтой-то я ничего не пойму, — только и сумела произнести Розумиха, вглядываясь в царёва посланца. — А сын-то мой что? Где он и что с ним?
— У меня к вам, милостивая государыня Наталья Демьяновна, письмо от его высокопревосходительства господина обер-егермейстера Алексея Григорьевича Разумовского. Извольте прочесть.
Она приняла конверт и, повертев его в руках, передала рослому парубку, оказавшемуся с нею рядом.
— В голову никак не возьму, — произнесла она. — Алёшка наш едва по складам умел книжное разбирать, а тут — целое письмо. Может, ты, сын Кирила, тую цыдулю[8] разберёшь?
Кирила, как две капли воды его брат Алексей, хлюпнув носом, произнёс:
— Батюшка из церкви в Чемерах меня мало-мало только по-печатному учил, а тут — скоропись. Ну да где наша не пропадала!
С помощью царского слуги отрок кое-как совладал с письмом, из которого следовало приглашение сына матери и брату приехать к нему в Москву.
Сборы были недолги. Поручив хату и всё нехитрое хозяйство родичам, Наталья Демьяновна с сыном Кириллом впервые в своей и Кирюшиной жизни выехали в неведомый и дальний путь.