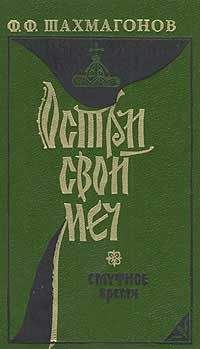Юрий Когинов - Татьянин день. Иван Шувалов
— Так что делать? Как прекратить сии, скажем, домогательства к русской великой княжне, о чём и при моём дворе возникают всяческие предосудительные толки?
— А вы поступите как истинная государыня. Коль сей посол аккредитован при вашей особе, то вы сами и сделайте ему соответствующее внушение. Дескать, именем его величества всероссийского императора отныне запрещаю вам являться в частные дома, ниже — в дом, принадлежащий великой княжне Елизавете Петровне. Или вас, ваше высочество, тревожат ещё какие-то слухи?
— Да, ты права. Лесток не выходит у меня из головы наряду с этим французишкой Шетарди. Спелись они — не разлить водою. А что промеж их общего, какая цель сей дружбы, нетрудно и догадаться, зная устремления французского посла. Они оба готовят тяжкое злоумышление против меня и моего сына-императора.
На глаза Елизаветы внезапно навернулись слёзы, губы её слегка задрожали.
— Боже сохрани и помилуй! — перекрестилась она. — Да это же навет на моего лекаря. Чтобы Лесток бегал к французу с мыслью о заговоре! Тогда прикажите его немедленно арестовать, и пусть он, при пытках, подтвердит и свою и мою невинность. Ведь, обвиняя Лестока, вы, ваше высочество, невольно подозреваете меня. Разве это не так, разве не затем вы меня вызвали теперь на этот ужасный для меня разговор? Да как вы, право, ваше императорское...
Слёзы не дали Елизавете договорить, и она бросилась к правительнице, которая раскрыла ей свои объятия.
— Успокойся, Лизанька, полно, милая, — заплакала и сама правительница. — Да разве я о тебе? Я верю, верю тебе...
— И я... тоже — тебе, — не переставала рыдать Елизавета.
Всю ночь она простояла перед образами, не уставая молиться.
— На что же ты надоумишь меня, Господи? — шептала она. — На что благословишь? Более ждать нельзя. Полетит если не моя голова, то головы тех, кто мне верен. Надо стать во главе гвардии и повести её во дворец. Повести самой. И я знаю день, когда сие можно совершить, — шестого января, в день Трёх Святителей, на Неве будет смотр всем гвардейским полкам. Тогда я выйду к ним и объявлю себя императрицей.
Меж тем нежданные обстоятельства всё изменили. Утром в Смольный дом влетел Лесток.
— Не знаю, обрадую я тебя, матушка, или вконец огорчу, — начал он чуть не с порога. — Вечером был у Шетарди, и он рассказал, с каким недовольным видом увела тебя с куртага правительница. Но новость более важная: гвардейским полкам отдан приказ выступать к Выборгу немедля! О том я услыхал в остерии, где, можно сказать, провёл ночь за штофом.
Лицо Елизаветы, осунувшееся после бессонной ночи, ещё более поблекло, когда она услыхала известие, принесённое Лестоком.
— Покличь-ка ко мне всех моих, кто есть в доме. Да озаботься, чтобы и другие, кто мне будет потребен, тотчас пришли, — выпрямилась она и прошла в гостиную.
Почти весь день, то взрываясь, то затихая, спорили друг с другом братья Шуваловы и Алексей Разумовский, Воронцов Михаил и Василий Фёдорович Салтыков, дядя покойной императрицы Анны Иоанновны, принявший теперь сторону Елизаветы. Были тут и родственники цесаревны — её двоюродные сёстры и братья Скавронские, Ефимовские, Гендриковы.
Лесток то убегал куда-то на короткое время, то вновь появлялся в зале, пытливо вглядываясь в лицо своей высокопоставленной пациентки.
«Она колеблется, никак не может решиться. А у многих из тех, что собрались здесь, видно, поджилки трясутся. Да и то надо понять — рискуют ссылками, а то и головами. Одному мне не привыкать — изведал изгнание и опала мне не впервой», — говорил себе Герман Лесток. Не простой у него была судьба. Его отец, родом из Шампани, покинул Францию и поселился в Германии, где был сначала цирюльником, а затем хирургом при дворе Брауншвейг-Целльского герцога. Сын его, Герман, двадцатилетним юношей уехал в Россию, чтобы самостоятельно найти своё счастье. На него обратил внимание сам царь Пётр, подивившись тому, с какою ловкостью юнец орудовал хирургическим ножом. Но кто-то донёс царю о каком-то проступке Лестока, и он сослал его в Казань. Лишь Екатерина Первая вернула острого умом и преданного императорской семье эскулапа из опалы и приставила его лейб-хирургом к своей дочери.
«В преданности моей её высочеству не следует сомневаться, — рассуждал теперь сам с собою уже пожилой, пятидесятилетний врач. — Да она теперь ждёт от меня не словесных уверений — их изливают ей все, собравшиеся за столом. Она ждёт от меня поступка, что воспламенил бы её волю. И я его совершу, чем бы он, мой шаг, ни обернулся».
Он взял листок бумаги и подошёл к столу.
— Соизвольте взглянуть сюда, ваше высочество, — сказал он, показывая ей рисунок, который он только что набросал.
На бумаге в одном углу была представлена она, цесаревна, с короною на голове, на другом рисунке — она же в монашеской рясе.
— Желаете ли, ваше высочество, быть на престоле самодержавною императрицею или сидеть в монашеской келье, когда ваши друзья и приверженцы окажутся на плахе? — произнёс он.
Елизавета прикрыла ладонями лицо и тут же, отняв их, оглядела столпившихся вкруг неё:
— Я докажу вам, что я — дочь Великого Петра! Подайте, Лесток, мне кирасу. Я сама поведу вас туда, куда надо.
— Эх, где наша не пропадала! — вдруг воскрикнул Алексей Разумовский, почти весь день до самого позднего вечера не проронивший ни слова и не притронувшийся к рюмке.
— Пойдём все, как один, — проговорили Шуваловы, и с ними в согласии оказались Воронцов и другие, кто был посмелее.
— Двое саней — у ворот, — доложил обрадованный Лесток. — Идём прямо к Преображенским казармам.
Елизавета и Лесток поместились в одних санях, на запятках стали Воронцов и Шуваловы. В другие сани сели Разумовский Алексей и Салтыков.
Когда подкатили к казармам, караульный ударил в барабан тревогу, сразу не распознав, кто в санях. Лесток тут же бросился к часовому и, отняв у него барабан, распорол кинжалом барабанную кожу.
Человек тридцать гренадеров, которых заранее успел предупредить Лесток, завидя пришельцев, бросились скликать товарищей именем Елизаветы.
Она тут же вышла из саней и, обратившись к гвардейцам, окружившим её, произнесла:
— Знаете ли, чья я дочь? Меня хотят насильно постричь в монастырь, но я, дочь Петра Великого, имею все законные права на российский престол. Хотите ли идти за мною?
Дружные крики были ей ответом:
— Готовы, матушка, идти за тобой. Всех перебьём, кто станет у тебя на пути!
Елизавета остановила их:
— Если вы намерены пролить чужую кровь, то я с вами не пойду.
Это сразу охладило порыв солдат.
— Я сама скорее умру за вас, клянусь вам на кресте. Но и вы присягните за меня отдать жизнь, коли это потребуется. Только ни одна чужая человеческая жизнь отныне не должна быть понапрасну загублена.
— На том присягаем! — снова отозвалась толпа гвардейцев.
Все стройно двинулись через Невский проспект к Зимнему дворцу. Лесток распорядился выделить четыре отряда, коих направил к домам министров, чтобы их арестовать. Остальные, числом не менее трёх сотен, двинулись к Адмиралтейской площади.
Путь был не близкий, мешали сугробы, и люди заметно притомились. Чтобы их приободрить, Елизавета вышла из саней.
— О нет, матушка, — сказал кто-то из шедших рядом гренадеров. — В лёгких туфельках — не по сезону. Давай-ка мы тебя понесём на руках!
Уже в самом дворце к шествию присоединился весь караул.
Перед спальнею правительницы она дала рукою знак остановиться и одна вошла в опочивальню.
На кровати лежали Анна и её фрейлина Юлиана.
— Не с мужем, сударыня, проводишь ночь, а со своею любимицею Жулькою, — произнесла Елизавета и добавила: — Пора вставать, сестрица. Твоё время кончилось.
Спросонья Анна Леопольдовна сразу не сообразила, кто над нею стоит. Только совсем открыв глаза, она ужаснулась:
— Так это ты? О Боже, значит, тогда мне был верный знак — лежать мне у твоих ног. Только об одном я тебя прошу: не разлучай меня с моей Юлианой и родным сыном.
Младенец находился рядом, в люльке. Он тоже проснулся, но не закричал, лежал спокойно и даже, казалось, тихо улыбался.
— Ах ты маленький! — взяла его на руки Елизавета. — Бедняжка, ты ни в чём не виноват. Это другие должны держать ответ за всё, что с тобою произошло...
Родня её величества
Императрица! Одна бессонная ночь — и свершилось то, на что втайне — считай, почти всю свою жизнь, до нынешних тридцати двух годков — надеялась она сама, чего ждали многие православные россияне...
Утром двадцать пятого ноября появился манифест, который должен был растолковать всё, что произошло в Санкт-Петербурге и почему до этого дня в России был императором малолетний Иоанн Антонович, а теперь вот — дщерь Петрова.