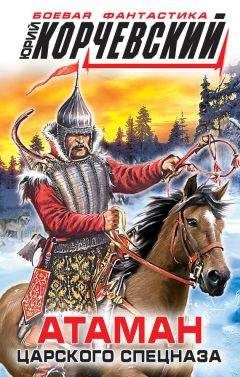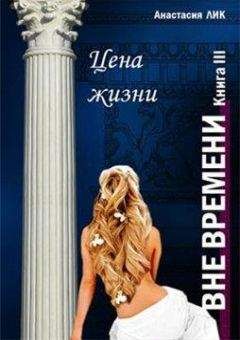Юрий Крутогоров - Повесть об отроке Зуеве
— Поймали кого?
— Да кто его знает. Я свое отбегал, — опять пояснил словоохотливый старик, показывая, что он хоть и не прочь поговорить, но в то же время умеет держать язык за зубами.
Староста, лохматый, большеухий мужик в армяке, разглядывал студентов с опаской.
— Всех ненашенских хватаем, такой приказ от пристава. Вы кто такие?
— От научной команды.
— Какая такая команда? Пристав приедет — разберется. Наше дело — приказ сполнять. Этап с дороги разбежался, ну мы и в анбар ненашенских.
— Веди в амбар, — приказал Соколов и скинул с плеча мушкет. — Не гневай самого Палласа.
— И Палласа не знаем…
— Палласа не знаешь? — глумился над старостой Соколов. — Медицины доктора, члена королевского аглицкого общества, самой Берлинской академии, Санкт-Петербургской академии?.. Да ты неуч великий. Всякий порядочный староста должен знать Палласа, а ежели кто не знает — того прочь гнать, такой приказ вышел.
— Как же, как же, — поддержал товарища Антон Вальтер.
— Мигом за ключами! — приказал Соколов. — Палласа он не знает! Да ежели ваш пристав про то проведает — уж будет тебе трепка. И поделом!
5Отыскав в верховьях Байтугана несколько нефтяных ключей и нанеся на карту их расположение, Зуев возвращался на постоялый двор. Тропа огибала берег реки в зарослях острой осоки, ныряла в заводь, вбегала на пригорок. С час назад прошел дождь, Вася промок, изрезался об осоку, но был счастлив: несколько черных родничков обнаружил. На язык даже взял жидкость. В ней преобладал вкус дегтя, губы горчили, не мог слизнуть вязкий жирный слой.
Тропа вывела на поляну. Зуев разбежался и всем телом плюхнулся в свежеумытую траву. Так и лежал, раскинув руки. Лицу щекотно, руки горели, и было приятно ощущать прохладную влагу. Услышал шаги, вскочил и увидел морду мужика в крупных рябинах оспы. Рябины расплылись в сплошное пятно, острая боль в затылке свалила наземь.
— Еще один! — раздался вопль.
Заломили руки. Вася дернулся и получил сильный удар в нос. Кровь залила рот, шею… Рябой мужик ногою, обутой в лапоть, бил мальчика в живот, в пах, по ребрам.
Очнулся в дровяном сарае. Сквозь бревна пробивался свет. В противоположном углу лежал на спине связанный мужчина. Это был служивый с разбойной мордой.
Тошнило. Ныла башка, мокрая рогожа холодила тело, затекли пальцы.
— Эй, патлатый! — позвал Вася.
— Ну.
— За что нас сюда?
— А беглые потому.
— Да какой я беглый?
— А ежели не беглый, что ж твоя команда не выручает? За достопамятностями они идут, тьфу.
Вася неловко повернулся, застонал.
— Не ной ты, — прикрикнул патлатый. — Тошно без тебя. Меня не так отделали — молчу. Давеча говорил, в Сибирь идешь. Вот и попрут в Сибирь. В оковах, в аккурат по ноге. — Усмехнулся: — Да тока далеко не уйдешь — хилый. Ямку-то при дороге выкопаю.
Как они накинулись! С каким остервенением бил рябой — за что? И этот патлатый, до чего ненавидящий у него взгляд.
— Эй, знатель…
— Отстань.
— Вишь, говорить не хочет.
— Злобный ты.
— А-а-а, какой добренький. Во, скажу: все беды от вас.
— Дурень ты. Чем тебя знатели допекли?
— А не они пишут указы, по которым хоть вой, хоть помирай?
Крепко, судя по всему, досталось мужику в жизни. Из таких выходят государевы ослушники. Сколько их встречалось в путешественной дороге от самого Санкт-Петербурга. Грязные, в рванине, звенящие цепями. Повернулось-то как? Сам теперь колодником пойдет долгим этапом. Поди докажи, кто ты есть.
Зуев не сдержался, прикусил губу, дал волю слезам.
6…От резкого света раскрыл глаза.
— Ва-аська-а! Куда запропастился, а? — кричал Никита Соколов. — Подымайся. Паллас извелся, Шумский руки хочет на себя наложить.
Развязали Ваську, накинули на плечи душегрейку. Никита по-медвежьи облапил.
Студенты разглядывали младшего члена путешественной команды — нос распух, на губах запеклась кровь.
— Эк тебя помяли! — Разъяренный Соколов повернулся к старосте: — Кто посмел?
— Да разве ж знали, что ефтот господин…
— Я тебя счас на первой осине подвешу! — захлебывался в гневе Никита.
— Оставь его! — сказал Вася. И обернулся к патлатому: — Ну ты, чего разлегся? Вставай!
Староста дверь загородил:
— Ваше благородие, и эфтот ваш?
— Наш, наш! — упреждая студентов, вскричал Вася. — Егерь! Зверя бьет для коллекции.
Староста недоверчиво косился на студентов:
— Ваш, что ли? Аглицкого и берлинского доктора?
Прихрамывая, патлатый вышел из амбара.
— Ну, молись господу богу, что рядом осины нет, — поугрожал напоследок Соколов.
Староста отскочил подальше.
Вчетвером добрались до околицы.
— Крестись, бродяга, — сказал Никита патлатому. — Вышла тебе удача. Иди, куда шел. Да Ваську помни…
Служивый с разбойной мордой не трогался с места.
— А вот вы, господа-судари, говорили старосте, дескать, я есть егерь. Зверя бью.
— Ступай, ступай…
— Я ведь и верно стрелок. Возьмите с собой. Южным ветром пропеченный, морозом стуженный, солью морской просоленный.
— Разбойничек, — засмеялся Вальтер.
— Ерофеев я, — сказал патлатый.
На постоялом дворе Вася поведал о своих печальных приключениях. Выпил кринку топленого молока. Паллас, как истинный лекарь, налепил на Васины синяки чудодейственные примочки, приказал ложиться в постель.
— Вот еще! — Зуев ввел в горницу патлатого. — В отряд просится.
Паллас острыми зрачками вонзился в разбойную морду патлатого.
— Кто, откуда?
— Казак вольный. Дончак.
— А вольная?
— За волей и бегу в Яицкие степи.
— Семья есть?
— Не женатый, ваше сиятельство. Вот без ружжа что без жены. Будет ружжо — будет жена. Примкну к вам, ежели доброту поимеете.
Вася подал голос:
— Возьмите, Петр Семеныч. Его ж опять загребут.
— Ох, заступник! — сказал Паллас. — А чем за него поручишься?
— Жаль его. Пропадет.
— Стреляешь ловко? — спросил у патлатого Паллас.
— Стрелять… этому обучены.
Паллас оглядел спутников:
— Что скажете?
— Пусть идет, — согласился Шумский.
— Не сбежишь? — спросил Никита. — Вороват ты больно.
— А на морду чё глядеть? — отозвался Ерофеев. — Я, в придачу, и кашеварить, и плотничать, и телегу собрать, шину починить, чеку поставить… — Подлез под кибитку, подпер плечом и крутанул колесо. Смотрел на Палласа немигающим детским взором, всем видом выказывая полезность свою и открытость.
Ерофеев хоть и не понимал, за какой надобностью идут в Сибирь эти люди, но они ему пришлись по сердцу. Шумский — хитрец! — все пытался узнать, кто да откуда Ерофеев. Уж больно нахальный! Тот лишь отмахивался: «Какой есть, такой и пришелся, какой был, такой потерялся».
И верно: потерялись в далеком далеке молодые ерофеевские годы. Когда-то вместе с атаманом Кукиным разбойничал на Каспии. На остроносых стругах догоняли громоздкие купеческие баржи, отнимали добро. «Ку-ку», — лихо прощался с перепуганными купчинами атаман. Потому и дали ему имя — Кукин.
Носил тогда Ерофеев богатый, с барского плеча, кафтан, персиянские сапожки. Кроме шелкового, другого белья не знал. Случались штормы. Они не пугали Ерофеева. Он и точно был ветром пропеченный, солью морской просоленный.
Однажды на морскую шайку напал береговой сторожевой отряд. В схватке погиб атаман. Ерофеев бежал.
В небольшом волжском хуторе пристал к крестьянскому двору. Ухаживать за скотиной, лопатить огород наскучило — нет, такая жизнь не по нему. И опять подался в бега. Золотишко имелось, дошел до Самары-городка. Но долго быть тут поостерегся, двинул в Яицкие степи. Есть там старообрядческие поселения — бородачи не выдадут.
По дороге Ерофеева схватили.
— Значит, говоришь, потерялся? — не отставал дотошный чучельник. — Ну ничего, теперь науке послужишь — куда полезнее!
— Вы… наука… Наука? Я ж тогда Потемкин!
— Ну и дурень! — Вася засмеялся. — Потемки у тебя в башке!
Туры, телеги, измазанные глиной скубенты, их сиятельство с давно не бритыми щеками, в простецком вытертом кафтане, грязь под ногтями.
Ерофеев был уверен: обоз с их сиятельством — не без тайного умысла. Наука… Она высоко сидит, в Санкт-Петербурге, под смотром самой царицы. Наука звезды высматривает в подзорную трубу, сочинения разные пишет. А эти… тьфу! Шайка не шайка, бродяги не бродяги.
Вася вразумлял Ерофеева:
— Я, конечно, сбоку припека. А Петр Семенович, хоть и лопатой орудует, про все ведает.
— Все про все и я знаю, — усмехнулся Ерофеев. — Кто ныне чего не знает!